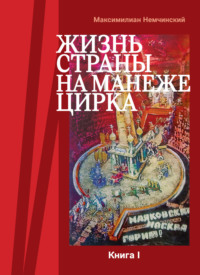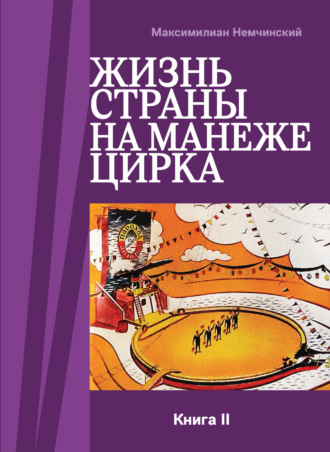
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
Поэтому, чтобы представить мастеров манежа во всем блеске их мастерства, и был сформирован специальный коллектив для выступлений на стадионах.
За три летних месяца этот коллектив умел, выступая на двадцати шести стадионах, обслужить до полумиллиона зрителей. В этих спектаклях удалось проверить самые разнообразные приемы организации не просто массового, а именно циркового зрелища. Удалось отладить способы преобразования номеров для необычных условий показа и приемы доставки артистов к их аппаратам или к месту работы. Но, главное, Рябчуков утвердился в своем мнении, что ограничиваться при этом исключительно номерами, которые при формировании программы принято именовать «спортивно-акробатическими», невозможно. «Цирк немыслим без клоунов, вызывающих у зрителей веселый или саркастический смех, – записал он, собирая артистов еще для первого коллектива. – В представление будут вкраплены различные клоунские интермедии и репризы. Метко бьющая в цель сатира сочетается в них с веселой шуткой. Практика показала, что радиофикация стадиона с успехом позволяет проводить выступления артистов разговорного жанра – сатириков и музыкальных эксцентриков. Слово на стадионе так же необходимо, как на цирковой арене. Хлесткое, умное, лаконично выражающее мысль и убедительно сказанное слово дает великолепную разрядку между номерами зрелищного характера»[119].
Благодаря радиофикации стадионов разговорную клоунаду удавалось представить довольно широко, не чураясь международных проблем и прибегая в сатире на бытовые темы к частушкам. Советским клоунам полагалось не забывать о своей гражданской позиции.
Тексты выходных монологов, прологов и эпилогов, посвященные революционным датам и значительным событиям в жизни страны, постоянно заказывал своему авторскому активу репертуарно-художественный отдел Союзгосцирка. Большая работа велась по созданию сатирических диалогов, куплетов, антре и реприз. Они должны были соответствовать идеологическим целям партии и отражать значительные хозяйственные достижения государства. И при этом вызывать смех в зрительном зале. Сатирикам всегда жилось трудно. Не легче было и в период, когда с самой высокой трибуны страны была провозглашена необходимость в современных Гоголях и Салтыковых-Щедриных. Ведь вынужденно признавая подобную установку, реализацию ее старались излишне не поощрять. Именно тогда Юрий Благов, пишущий для цирка и печатающийся в «Крокодиле», четко охарактеризовал создавшуюся ситуацию:
Мы за смех, но нам нужныПодобрее ЩедриныИ такие Гоголи,Чтобы нас не трогали.Поэтому и сами клоуны, и исполняемые ими клоунады постоянно находились под строгим контролем. Требования к ним постоянно менялись. Но всякий раз за их выполнением строго следило цирковое руководство, с которого, впрочем, спрашивали еще более строго.
Традиционные коверные, которые владели, как правило, если не всеми, то большинством цирковых жанров, обходились пародированием выступавших до их появления на манеже номеров, а иногда даже сами включались в какую-либо трюковую комбинацию тех или иных артистов. Но советские коверные обязаны были прежде всего демонстрировать и свою гражданскую позицию. Об этом приходилось заботиться пишущим для цирка авторам. Злободневные репризы, создаваемые ими по заказу, быстро устаревали и потому сразу же рассылались Главком всем исполнителям для включения в репертуар. Те же клоунады, которые могли рассчитывать на долгую жизнь, закреплялись за конкретными исполнителями.
Чтобы исполняемые на манеже репризы могли постоянно оставаться актуальными, в репертуарном отделе придумали даже так называемые «тексты-каркасы». Создавались разговорные схемы, которые могли легко пополняться востребованными в городе гастролей местными темами. Впрочем, от этого новшества довольно быстро отказались, ведь клоунам полагалось обличать и конкретные городские недостатки, и события международной политики, а они часто отбирали не тот материал, по которому следовало выступать с манежа, а тот, для отображения которого имелся подходящий готовый каркас. Поэтому предпочтение отдавалось сатирическим произведениям, создаваемым проверенными, а потому и востребованными авторами. «Не отрицая необходимости в репризах на темы благоустройства города, ремонта жилья, коммунального обслуживания, – упорно напоминал главный редактор репертуарно-художественного отдела Союзгосцирка А.С. Рождественский, – мы все же хотим подчеркнуть, что важнейшими темами для сатирических реприз и интермедий являются темы борьбы со всеми пережитками прошлого, мешающими нашему движению вперед к коммунизму, со всеми отрицательными явлениями, которые были подвергнуты острой и беспощадной критике на январском Пленуме ЦК КПСС»[120].
Никто не отрицал справедливости этого мнения, тем более подкрепленного ссылкой на одобрение партии. Спорили лишь о путях его воплощения на манеже. Об этом регулярно писали газеты. Сложившуюся ситуацию анализировали специально созванные конференции. Проблему эту постоянно обсуждали на всевозможных советах и заседаниях Главка. Собрали даже Всесоюзное совещание по вопросам клоунады. Его результат был предсказуем. Недостатки репертуара и подготовки новых клоунов и так были всем досконально известны[121]. Ю.А. Дмитриев, член Художественного совета Главка и основной докладчик на совещании, в очередной раз процитировал слова А.В. Луначарского, что «клоун смеет быть публицистом». Газетная заметка удовлетворенно отметила, что управляющий Союзгосцирком Ф.Г. Бардиан «призвал клоунов смелее вторгаться в жизнь, активнее бороться с недостатками, утверждать на манеже новые качества советского человека – строителя коммунизма»[122].
Куда дотошнее вопросы репертуара обсуждались на периферии. «Цирк не признает скуки, в цирке должно быть весело, каждый цирковой номер – это отдельное законченное произведение, – заявил директор Ростовского-на-Дону, год назад заново отстроенного стационара Г.А. Алиев, – и настало время восстановить номера, которые цирку необходимы, ведь они новые и на сегодняшний день». И Гавриил Алексеевич перечислил те, без которых в былые времена не обходилась ни одна программа:
«1. Соло-клоун.
2. Буффонада.
3. Комик-прыгун трамплинист.
4. Клоунада-антре.
5. Эксцентрики-акробаты.
6. Эксцентрики каскадеры-прыгуны.
7. Комик-турнист.
8. Комик-вольтижер в полете.
9. Комик-пародист.
10. Комик-жонглер.
11. Комик с дрессированным мулом-ослом.
12. Сатирик-соло.
13. Сатирический дуэт.
14. Сатирик-эксцентрик.
15. Танц-комик.
16. Музыкальные сатирики.
17. Дуэт музыкальных сатириков.
18. Музыкальные эксцентрики.
19. Музыкальный скетч “Капелла Ульмана”. Сделать современную сатиру.
20. Конный скетч “Семейство Браун”.
Ведь конная сценка “Браун” – это насмешка над разбогатевшим семейством, которое пришло учиться верховой езде. Почему это не восстановить? Давайте думать о том, чтобы восстанавливать жанры, которые давно забыты». Он же назвал путь, позволяющий осуществить эту, такую нужную работу: «Надо создать циркам такую обстановку, чтобы они были творческими базами, чтобы мы могли влиять на это творчество. А то мы существуем на правах не то проката, не то агента по снабжению»[123].
Главный режиссер Ростовского цирка пошел в своих пожеланиях еще дальше. «Было бы хорошо, если бы цирк вернулся к тому, чем он был богат раньше, – заявил Е.А. Рябчуков. – Это пантомима, где всегда рождалась клоунада. Надо возродить к жизни пантомимический жанр, возродить к жизни коллективы, что обеспечит творческий рост артистов, поможет создавать представления, основанные на искусстве ансамбля, создавать новый репертуар с артистами разговорного жанра»[124].
Но «возродить» в творческой среде означает открыть заново. В стремлении найти новые комические ситуации и маски на манеже имелся несомненный резон. И был он связан с постоянными требованиями не просто обновлять, но осовременивать клоунский репертуар. Стремление ввести злободневную современность в строгие рамки буффонадного антре чаще всего не приносило желаемого результата. Поэтому уже не гротесковыми, а нелепыми становились попытки смягчить для этого привычные маски «белого» и «рыжего». Традиционное становилось устаревшим.
Нести злободневную гражданскую позицию много проще позволяли образы, в которых выходили клоуны, заполняющие паузы между номерами. И происходило это благодаря тому, что создаваемые коверными маски обладали определенной бытовой достоверностью. Поэтому коверные клоуны предпочитали, чем дальше, тем решительнее занимать место, не предназначавшееся им ранее в цирковой программе. Из-за исчезновения из репертуара всех многочисленных комических жанров (названных в выступлении Алиева, но и хорошо известных и без него) именно комики у ковра приняли на себя их обязанности. Это привело к самому решительному изменению роли и значения коверного в современном цирковом представлении. «Теперь уже не коверный клоун пристраивает свои репризы к паузам после номеров заранее составленной программы, а сама эта программа сплошь и рядом составляется при непременном участии коверного клоуна из номеров, удобных для него с точки зрения последующего обыгрывания их наиболее ударными репризами, – четко обозначил Г.С. Венецианов сложившуюся в отечественном цирке ситуацию, которой был вынужден следовать и в своей постановочной работе. – Теперь реприза коверного уже не служебная прослойка в паузе между номерами, а почти самостоятельный номер программы, временами маленькая клоунада»[125].
Благодаря именно так складывающейся системе формирования показа представления, безмерно выросло значение личности самого артиста, выступающего в этом, наиболее трудоемком и ответственном цирковом жанре, повысилась его актерская заразительность, темперамент, улучшилась трюковая оснащенность. Такие мастера были нарасхват и наперечет в цирке.
В стремлении решить эту проблему еще в начале 50-х нашли, казалось, выход – начали вместо коверных-солистов или парных коверных создавать клоунские группы. Одной из причин их появления можно было бы считать широкое распространение разного рода массовых зрелищ. Однако более значимой явилось, пожалуй, изменение самого характера спектаклей на манеже и создание сравнительно постоянных (на несколько лет) программ. «В стойком цирковом коллективе не только пролог, но и все представление строится так, чтобы артисты выступали в случае надобности не только в собственных номерах. В подобной программе вместо коверного можно выпустить группу комиков, которые исполняют ряд реприз и интермедий, – отмечал В.А. Ардов, которого как профессионала, пишущего для цирка, проблема эта занимала далеко не умозрительно. – Нельзя не учесть, что разнообразные интермедии и “шаривари” группы коверных клоунов особенно уместны, если в труппе нет сильных комиков, способных в сольном выступлении или в дуэтном антре привлечь внимание зрителей»[126].
Создание клоунских групп стало своеобразной легализацией такой формы представления, как «Вечера клоунады». Ведь издавна руководители цирков при снижении сборов прибегали к такой беспроигрышной мере. И клоуны программы, и представители других жанров, мало-мальски владеющие актерскими навыками, наскоро вспоминали популярные антре, куплеты, репризы, подготавливали пародийные номера. Из всего этого составлялась программа в два отделения (третье отводилось присланному по разнарядке аттракциону). Клоунские выступления сменяли друг друга, а между ними время от времени демонстрировались и физкультурно-спортивные номера программы. Но и при этом в паузах между трюковыми комбинациями разыгрывались клоунские интермедии.
Постепенно и в обычных программах паузы между номерами вместо одного коверного стали заполнять собранные вместе артисты, владеющие как комическими, так и просто цирковыми жанрами. Они могли разыгрывать интермедии, появляясь все вместе, попарно, а иногда и по одному. При этом исполняться могли как пародии на только что показанные номера, так и клоунады, самостоятельные разговорные, а то и музыкально-эксцентрические сценки. Иногда эти группы собирались вокруг клоуна, уже добившегося популярности. Так организовался небольшой коллектив во главе с Константином Берманом. Даже Карандаш согласился принять под свою руку не имеющих еще манежного опыта выпускников клоунских мастерских (у него начали свой творческий путь Никулин и Шуйдин). Но чаще всего такие группы не имели достаточно популярного «афишного» лидера. Здесь уже брали не известностью, не мастерством, не умением, а количеством.
Одна из подобных клоунских групп добилась такой популярности, что даже получила свое собственное имя – «Семеро веселых». Как любой цирковой коллектив, в котором каждый участник стремится вырваться для самостоятельного творчества, и этот довольно часто менял свой состав. Но постоянно в группе находились артисты, которых в цирке принято именовать «разговорниками», – и исполнители куплетов, и владеющие музыкальными инструментами, и способные повторить трюки хоть какого-нибудь жанра и наделенные даром к пародиям. Поэтому те репризы, с которыми они – когда все вместе, когда и поодиночке – выходили на манеж между номерами программы, были достаточно разнообразны.
И все же упреков в свой адрес артисты, разумеется, избежать не могли. Среди постоянных претензий ко всем клоунам были обвинения в том, что они годами не меняют свой репертуар. Столь же традиционны были уверения артистов, что этому препятствуют постоянные и частые переезды. Попыткой решить проблему стало распоряжение о закреплении на длительный срок за конкретными цирками как коверных-солистов, так и клоунских групп. Благодаря такому решению в Ростов-на-Дону распоряжением Главка были присланы «Семеро веселых».
«Этот ансамбль, которым руководит опытный мастер клоунады С. Анохин, сложился из актеров театра и молодых артистов цирка – А. Векшина, А. Глущенко, П. Клементьева, В. Масловского, С. Курепова и Б. Романова, – тут же отметила их появление местная пресса. – Влюбленные в свою профессию, люди с энтузиазмом работают в области сложного жанра клоунады. За короткое время ансамбль создал “Новогодний пролог”, “Сказку-елку”, несколько своеобразно решенных реприз. Но это только начало. Работы, как говорится, еще непочатый край. У ансамбля пока нет своего творческого почерка, не найдены образы, костюмы. Сегодня ведется большая работа по художественной реконструкции клоунады. Вместо изживших себя костюмов задуманы новые, оригинальные. Абстрактные маски будут заменены острыми клоунскими характерами. Привлекаются авторы для создания новых реприз»[127].
Хотя у клоунов имелся достаточно обширный запас репризных ходов и трюков, которые благодаря помощи местных писателей и журналистов по мере необходимости обогащались, выход с ними в меняющихся программах к одному и тому же зрителю довольно быстро их исчерпал. Присланные по просьбе работающего с «Семеркой» главного режиссера цирка – а им в тот период являлся Е. Рябчуков – московские авторы Ф.А. Липскеров и В.В. Медведев, оговорив все вопросы, касающиеся новой программы для клоунской группы, ухитрились на месте написать две клоунады и вступительный монолог. Но не успели они уехать, как Рябчуков уже писал в Москву: «Крайне нужны для группы куплеты, частушки, причем было бы очень хорошо положить их на комический хор или театрализовать квартет, подразумевающий исполнение в образах»[128]. Программы в цирке шли по месяцу, но для привлечения зрителей репертуар «Семерки» менялся много чаще. За неполный сезон ими были подготовлены и сыграны выходная клоунская реприза, 7 клоунад, 3 игровые интермедии, 2 монолога, куплеты, финальная песенка, более 20 реприз, выпущен новогодний клоунский пролог и новогоднее представление для детей в 2-х отделениях[129]. Но все равно Рябчукову пришлось отправляться в Москву за новым репертуаром для «своего, ростовского ансамбля клоунады», как начали именовать «Семерых веселых» местные рецензенты.
Репертуарно-художественный отдел Союзгосцирка постоянно заказывал своему авторскому активу тексты прологов и эпилогов, выходных монологов, куплетов, сатирических диалогов. Литературный материал заказывали к конкретным идеологическим (освоение залежных и целинных земель, например) или производственным (прежде всего непременные «елки») кампаниям. Писались стихотворные монологи для таких дрессировщиков-разговорников, как Дуровы – двоюродные братья Владимир и Юрий, а позже и для их племянницы Терезы. Охотно принимался любой литературный материал, предназначенный именитым клоунам. Постоянные авторы с удовольствием выполняли заказы на всевозможные, вошедшие в моду тематические представления и уклонялись от работы над пантомимами, которыми, уже традиционно, представления на манеже не завершались. Большой спрос был на комические репризы, особенно затрагивающие современные темы. Цирковые авторы были профессионалами, многие годы пишущими для манежа. Поэтому иногда они приносили (а у них покупали) литературный материал, не предназначенный для конкретных артистов. Тексты, которыми мог воспользоваться любой клоун, сатирик или эксцентрик-куплетист, хранились в Главке в достаточно значительном количестве.
Поиск свежих реприз в папках репертуарно-художественного отдела совершенно неожиданно навел Рябчукова на невостребованное клоунское обозрение в двух отделениях. Залитовано оно было еще в 1956 году.
Несмотря на прошедшие пять лет, незамысловатый сюжет сценария не потерял своей актуальности. Основывался он на ходовой тогда теме поездки комсомольцев-добровольцев на одну из строек коммунизма. Героям обозрения предстояло сооружать гидроэлектростанцию, поэтому и добирались они до места строительства по реке. При посадке на пароход встречались один из будущих строителей и путешествующая вместе с матерью и навязываемым ей женихом девушка. Молодые люди влюблялись друг в друга и, несмотря на противодействие матери-мещанки, отправлялись вместе, как и было принято в произведения о молодежи тех лет, строить электростанцию и свою жизнь.
Эта пантомима-обозрение называлась по первой строчке популярной песни – «Пароход идет “Анюта”». В ней трудно не разглядеть откровенный цирковой парафраз пользующейся успехом постановки Московского театра «Эрмитаж» «Вот идет пароход». То был первый после войны сборный эстрадный концерт, решенный как тематический спектакль. И спектакль, и сам пароход выстраивались прямо на глазах зрителей. Постановка с аншлагами продержалась несколько месяцев на столичных подмостках и даже гастролировала после этого в Ленинграде. Вместе с тем в «Анюте» угадывался насыщенный современными реалиями повтор сюжетного хода давнишнего циркового спектакля «Веселый теплоход», выпущенного Третьей (Молодежной) постоянно действующей труппой в 1939 году[130]. Правда, к единственному сюжетному ходу того довоенного спектакля были добавлены еще несколько игровых и даже любовная линия.
И там, и здесь сюжет разворачивался как отбор самодеятельных цирковых номеров команды парохода и путешествующих пассажиров (взамен опоздавших к отплытию профессионалов) для представления в городе, в который направлялось судно. Новый вариант был оснащен, разумеется, приметами современности. Пароход перевозил строителей гидроэлектростанции к месту их работы. Это общее построение обогащала и лирическая интрига – в течение рейса соединялась молодая пара. А так как сценарий выстраивался как комический, то в нем заложены были локальные ситуации, которые позволяли усилить сатирическую напряженность действия (вздорный кляузник, пристающий ко всем с жалобами, поиск сбежавшего сумасшедшего, за которого принимают героя, путаница маскарадного и настоящего медведей, праздник Нептуна и т. п.). Даже самому факту окончания обоих отделений спектакля были предложены вполне достоверные, но вместе с тем комические происшествия. Взлетевший с подкидной доски персонаж, вцепившись в электрический провод, непреднамеренно обрывал его, вырубая тем самым свет на корабле (и во всем цирке), что позволяло объявить антракт для проведения ремонтных работ. А в финале спектакля герой, опять же случайно, бросал недокуренный окурок в ящик с пиротехникой. Благодаря этому и начинался традиционный фейерверк. Немало комических – и идеологических – возможностей таили образы недалекого, но обеспеченного стиляги, матери, пытающейся навязать его дочери. Взаимоотношения персонажей выстраивались как разговорные интермедии. Кроме того, герои постоянно обменивались репризными репликами. Приспосабливались к сюжетным ходам и несколько классические антре. Указывались в тексте и желательные цирковые номера, разнообразные по жанрам, которые предлагалось включать в спектакль из-за тематического решения, совпадающего с построением сюжета, или слегка трансформировать для циркового разрешения возникающих перипетий, или оставлять без изменений, как фрагменты будущего представления для строителей. Среди последних были даже названы конкретно уже давно работающие в конвейере эксцентрико-акробатические «Веселые повара» Федора Хвощевского и Аркадия Будницкого, а также манипуляция Григория Резникова.
Рябчуков понял, что характеры основных персонажей выбранного сценария вполне отвечают комическим образам, в которых привыкли появляться на манеже участники закрепленной за Ростовским цирком клоунской группы. Этот литературный материал мог послужить основой для создания комического спектакля. Необходимым представлялось только перевести сценарий перед его постановкой с разговорного языка на трюковой. На это требовалось авторское согласие и помощь.
У пантомимы-обозрения «Пароход идет “Анюта”» было три автора – В.Е. Ардов, М.А. Тривас и Э.Б. Шапировский. Объединились опытные (вследствие этого востребованные и плодовитые) литераторы, ни одно десятилетие поставлявшие самый разнообразный материал эстраде, цирку, а также позволительно острозубому «Крокодилу».
В обозрении было много узнаваемых отрицательных персонажей, а значит, и возможных комических игровых ситуаций. Ведь в цирке все, мешающее социально принятым нормам, полагалось изобретательно и зло высмеять. И материал позволял это сделать.
Пугающее изобилие текста не остановило режиссера. Во-первых, потому, что словесную репризу почти всегда можно постараться перевести в игровую. А во-вторых, все участники «Семерки» достаточно профессионально владели словом. Опираясь на это их мастерство, можно было постараться наиболее эффектные разговорные фрагменты развернуть в буффонадные антре. Изгнанные когда-то с манежа как явление космополитическое, теперь, при несколько ослабленном идеологическом давлении, буффонадные антре можно было попытаться вернуть, нацелив на борьбу с тем, что продолжало именоваться капиталистическими пережитками. Добившись согласия руководства на постановку выбранной им пантомимы-обозрения, Рябчуков вместе с авторами занялся переработкой сценария.
Прежде всего следовало избавиться от очевидных эстрадных ходов и словесных излишеств. Рябчуков просил исключить из действия фигуру артиста-трансформатора. Этот персонаж, путешествующий на пароходе, разузнав о необходимости пополнить программу, пытался, неоднократно меняя внешность, убедить циркового администратора включить его в состав выступающих. Оговорили при встрече и необходимость отказа от целого ряда эпизодических персонажей. Вместе с тем Рябчуков просил подумать о персонаже, который мог бы организовать и разнообразить пребывание пассажиров на борту. С последним авторы справились достаточно легко. Предложена была фигура массовика-затейника, обязательного тогда при проведении любого культурного мероприятия.
Авторы и режиссер проживали в разных городах, поэтому находить общие решения помогала почта.
Рябчуков, переосмысливая имеющийся литературный материал, составил сценарную схему пантомимы. Режиссер предложил все параллельные сюжетные ходы разрешить в первом отделении спектакля, чтобы второе целиком отдать карнавальному дивертисменту с исполнением номеров и пародийных реприз. Разумеется, при создании костяка будущего спектакля не только Рябчуков, но и авторы выдвигали свои требования. От их имени письменные переговоры вел М.А. Тривас.
«Вы совершенно правы насчет трансформатора: без него сюжет развивается прямее, мы сразу берем быка за рога. Но перенести весь сюжетный материал из II отделения в I-е оказалось невозможным – не только потому, что вымарка эпизодов с трансформатором и сокращение текста высвобождают слишком много места в I отделении, но и потому, что превращение II отделения в сплошной дивертисмент настолько обрывает сюжетную линию, что интерес к ней будет утрачен, и длительный эпизод с медведем окажется нелепостью, – писал Марк Адольфович. – Поэтому в I отделение из II-го мы перебрасываем только часть эпизодов, а некоторые оставляем на месте, причем они очень удачно вписываются в атмосферу карнавала, как, например, объяснение в любви Синичкина и Светланы (лирические герои пантомимы. – М.Н.), которое мы делаем несколько по-иному. Так или иначе, II отделение начинается прямо с карнавального шествия, сделанного совсем по-другому, нежели в предыдущем варианте. Шествие начинается танцами на манеже, в которые участники карнавала вовлекают и зрителей. Номер с медведями в конце мотивируется так: укротитель прилетел на вертолете, а комический перш используется для того, чтобы с биноклем высматривать, не летит ли он. А Вы подумайте, нельзя ли использовать вертолет, появляющийся под куполом из-за скрывающих его до времени облаков, для воздушного номера?»[131].