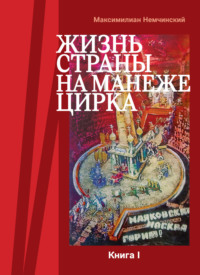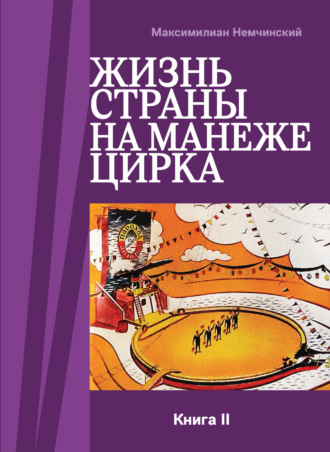
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
Кузнецов ухватился за это предложение. Ведь оно, мало того, что оправдывало необходимость воды в финале пантомимы, но и предоставило возможность отказаться от традиционного апофеоза с обязательными пловцами и ныряльщиками, всегда невольно набитого политическими реминисценциями. При такой новой планировке манежа героический сюжет пантомимы, посвященной борьбе за свободу и счастливую жизнь грядущего поколения, получал прямое и естественное продолжение в «Карнавальном празднике на воде». Он мог быть кратким, свободным от агитационных лозунгов и, главное, собрать в необычных производственных условиях самые показательные номера современного советского цирка.
Кузнецов оформил на бумаге итог и этой встречи.
«Все второе отделение является как бы продолжением праздника, возникающего в апофеозе пантомимы “Москва горит”.
Во время антракта вода, заполнявшая весь манеж, остается. В центре манежа возникает островок, необходимый для работы, и подготавливается вся аппаратура и необходимые детали оформления.
Погас свет, и хор вместе с оркестром исполняет новую песню – карнавальную песню представления. Выступают карнавальные лодки с цветными фонариками. Они расцвечивают воду десятками цветных световых точек и светятся изнутри.
Лодки плывут по кругу манежа. На каждой лодке, в процессе ее движения, молодые участники строят пирамиды и поддержки, образуя движущийся пластический фон для группы девушек Русаковых[86], показывающих свой номер на центральной площадке.
1. РУСАКОВЫ.
Номер закончен, лодки уезжают, и на смену им движется лодка с Рашковским и Скаловым[87]. Они исполняют серенаду влюбленных, а затем номер рыболовов, в который входит, как в первую репризу, Карандаш.
2. РАШКОВСКИЙ И СКАЛОВ (РЫБОЛОВЫ).
Рыболовов сменяет появившийся на воде Олег Попов.
3. ПРОВОЛОКА – ОЛЕГ ПОПОВ.
4. КЛОУНСКАЯ ГРУППА КАРАНДАША[88] исполняет буффонаду на воде Ю.Благова.
5. Номер СИДОРКИНА.
МОРСКИЕ ЛЬВЫ И ПЛОВЧИХИ[89].
В номере используется центральная площадка и непосредственно бассейн. По ходу номера репризы клоунской группы в воде.
6. НИКОЛАЙ ОЛЬХОВИКОВ.
На моторной лодке, движущейся по точному кругу манежа, исполняет свой жонглерский репертуар, заканчивающийся факелами, горящими цветным светом[90].
По ходу представления манеж обслуживает водяная униформа на лодках или вплавь.
Очередная реприза клоунской группы КАРАНДАША и, наконец, последний номер программы – П. ЧЕРНЕГА и С. РАЗУМОВ[91].
Завершает программу группа пловцов и пловчих.
Выезжает на лодках хор и гимнасты.
Звучит песня, иллюминация и фейерверк расцвечивают массовку на воде»[92].
Что касается непосредственной работы над самой пантомимой, то Арнольд уверял, что поводов для беспокойства нет, – Кноблок все придумает. Действительно, Борис Георгиевич принадлежал к тем редким театральным художникам, которые не подходили к материалу пьес как иллюстраторы и описатели быта. «Он, – по наблюдению исследовательницы его творчества, – как подлинный художник-режиссер, умел отбирать жизненные детали, заставлял их говорить языком театра. Поэтому в его декорациях жизненно правдоподобное становилось убедительным и сценическим». М.Н. Пожарская четко назвала основные качества Кноблока как художника: «праздничная зрелищность легких динамичных декораций, своеобразие планировок, слитность элементов оформления с игрой актера»[93].
Впервые привлеченный к оформлению зрелища цирка, Кноблок уже имел опыт создания спектакля на открытой сцене. Первой его театральной работой стали «Аристократы» Н.Ф. Погодина в «Реалистическом театре» у Н.П. Охлопкова, для которых он соорудил двухчастные подмостки, окруженные зрителями. Поэтому Борис Георгиевич был приучен воспринимать артиста не плоскостью, вписанной в сценический портал, а объемной фигурой.
Кноблок не стал объединять сцену и манеж. Но он вовлек в образную сферу зрелища купол. По его сегментам то ли нарисованные городовые, то ли одетые и загримированные под них артисты (это предстояло обсудить с режиссерами) били в колокола. Посреди пустой сцены возвышался золотой трон. За ним распластанный царский герб-орел раскидывал черные крылья шире портала. Две его маленькие головки на тонких шейках венчали короны. В лапах-руках орел сжимал, как державу и скипетр, виселицу и денежный мешок. От крыла к крылу был подвязан белый плат с ликами новой троицы – царя, царицы и Распутина. На него можно было проецировать текст манифеста, а если потребуется, и кинокадры. А в финале планировалось, что всё, находящееся на сцене, – и герб, и плат, и трон – зальет и сожжет багровое пламя победившей революции. По бокам форганга располагались убранные красными коврами лестницы. Но они, скорее, не спускались, а препятствовали добраться до помпезной бело-черно-золотой сцены. Они отгораживали трон ото всего, происходящего внизу, на манеже.
Масштабная, многоэпизодная, многожанровая, откровенно агитационная пантомима, густо населенная как благородными революционерами, борющимися за всеобщее счастье, так и царскими прислужниками, изо всех сил пытающимися удержать власть, требовала необыкновенно яркого, четкого облика меняющихся декораций и персонажей. Кноблок привлек к работе над костюмами молодого, только начинающего свой творческий путь художника Александра Тарасова. Поначалу они решили, что оформлять пантомиму Маяковского-автора следует в духе и стиле Маяковского-художника. К тому же «ОКНА РОСТА» по-прежнему оставались непревзойденным образцом революционного искусства. Четкая графика, локальный цвет этих агитационных афиш сами просились на манеж. Но уже в первых почеркушках от этой благодатной, казалось, затеи пришлось отказаться. Круговая динамика цирка не приняла фасовой или профильной статики плаката. Требовалось найти общий художественный прием, единственно пригодный только для циркового зрелища. Цирк ведь праздник, карнавал, феерия. Именно как в феерии должно все строиться и развиваться в пантомиме (еще Кузнецов сразу же отказался от «меломимы» в пользу перечеркнутой Маяковским «пантомимы-феерии»). Феерия подразумевает лихое преувеличение во всем. Сражения здесь – былинные. Герои – сильны и бесстрашны. Противники – врожденные недоумки, но наделенные властью, а оттого беспощадные вдвойне. Прогнившая империя держится на водке, церкви и штыках. И Кноблок строит на манеже эту трехсотлетнюю, но прогнившую Россию Романовых.
На огромной квадратной колымаге забитые крестьяне и замордованные рабочие вывозили умопомрачительное сооружение. Четыре стоящие в его углах огромные водочные бутылки-колонны с церковными маковками на горлышках поддерживали помост. С него под самый купол уходила покосившаяся, вся в щелях от выпавших досок, каланча. У ее основания, между водочными горлышками, закреплена была, словно вывеска распивочной, доска с зазывной надписью «Расея». Завершала каланчу пробитая местами крыша с жестяным шпилем, увенчанным сдвинутым набекрень подобием шапки Мономаха. А на смотровой площадке, украшенной трехцветными царскими флагами, дежурили, сверкая медными касками, еле державшиеся на ногах пожарники. Они сжимали в руках, попеременно обмениваясь ими между собой, шланги брандспойтов и поллитровки, из одних утоляя жажду, а из других поливая зазевавшихся прохожих.
Считая, что «Пирамиду» необходимо сохранить как точку отсчета начала революции за права человека, Кузнецов с первого момента понимал, что картину эту надо как-то оживить. Он предлагал, чтобы каждая кукла имела свой, характеризующий ее сословие жест. Придумал даже, что именно персонажи, собранные в виде кукол на разных уровнях сословной зависимости, в дальнейшем должны участвовать в сценах бала, построения карточного домика, да и во всей пантомиме. Но Кноблок выступил с совершенно неожиданным предложением. Он нарисовал в серии эскизов поистине феерическую, а главное – динамичную альтернативу «Пирамиду классов».
Любопытное, очевидно, для зрителей 1930 года (все рецензенты ее, как сговорившись, хвалили), олицетворение сословного соподчинения в дореволюционной России, у современных посетителей цирка вряд ли могла пробудить чувство социального протеста или хотя бы насмешить. Но художник, объединив вместе предложенную ему для оформления «Пирамиду классов» и отвергнутый «Табун памятников», представил режиссерам серию эскизов, в которых убедительно выразил свой замысел. Он предложил непосредственному изложению сюжета пантомимы предпослать своеобразный «Парад-алле», знакомящий зрителей не в статичной, а в игровой форме со всеми врагами революции.
Декорация «Расеи» неожиданно преображалась. Разваливалась каланча. Передняя нижняя стенка между бутылками отлетала в сторону. Из образовавшейся своеобразной торжественной арки начиналось, невесть откуда появляющееся, бесконечное шествие[94], впереди которого вышагивал военный духовой оркестр во главе с вымуштрованным барабанщиком, прижимающим к животу большой инструмент.
Этот разномастный, бурно выясняющий между собою отношения поток был разбит, как спортивные общества на физкультурных парадах, на отдельные группы. И перед каждой несли на шесте ярлык, объясняющий, какое сословие царской России он представляет. Шел генералитет, духовенство, дворянство, купечество, погромщики «Союза русского народа» и, завершая парад, тощая кляча с сохой и таким же тощим пахарем. Вся эта переругивающаяся между собой свора, совершив круг вдоль барьера, исчезала в главном проходе.
Этот марш-представление всех слоев притеснителей рабочего класса и крестьянства Кноблок решил продолжить и показом предшествующих Николаю II царей. Такое разоблачительное шествие придумали еще в 1927 году режиссер Н.В. Смолич и балетмейстер А.И. Чекрыгин для постановки синтетического действия по стихам В. Маяковского «25» (на его материале позже будет создана поэма «Хорошо»). С.Д. Дрейден реставрировал эту балетную пародию.
«Колокольный звон. На фоне черной завесы из левой кулисы выходит высвечиваемое прожектором шествие, возглавляемое митрополитами в пышных облачениях. Замыкают шествие черные фигурки монахов в клобуках, с мерцающими свечками в руках. Окруженная пляшущей челядью, в центре шествует танцующая Елизавета Петровна. Их сменяет Петр Третий, он марширует на прусский манер, печатая шаг. Отхлебнув вина из чарки, пускается в церемонный медленный танец («гроссфатер»), после чего вновь принимается маршировать. Из глубины сцены за ним следит офицер (подразумевалось, что это Орлов). Коршуном набрасывается на Петра, душит его шарфом, волочит мертвого со сцены и вскоре же вновь появляется, но уже под руку с Екатериной, окруженной красавцами гвардейцами. Гвардейцы поочередно танцуют с Екатериной, вызывая гнев Орлова.
Марш. Высоко вскидывая ноги, закинув голову назад, марширует Павел Первый, сопровождаемый гвардейцами. Те останавливаются. Разъяренный Павел мечется среди офицеров, раздавая направо и налево пощечины. Офицеры душат Павла, перебрасывают полумертвого царя с рук на руки и, наконец, неистово пляшут над трупом, чуть ли не топча его ногами. На авансцене Александр Первый снисходительно смотрит на это в лорнет. Офицеры уволакивают труп. Александр подзывает мужичка в лаптях, показывая на приближающуюся невзрачную фигурку Наполеона. Стоя рядом с Наполеоном, Александр растроганно его целует, обнимает и в то же время дает за спиной знак мужичку. Мужичок размахивается и что есть силы бьет Наполеона по шее, да так, что тот кубарем летит со сцены. Мужичок, смиренно кланяясь, подает Александру челобитную, но царь, небрежно взглянув на нее сквозь лорнет, швыряет бумагу мужичку в лицо, пинает его ногой. Усмехаясь, играя лорнетом, уходит.
Барабанная дробь. Медь военного марша. Вытянув носки, марширует Николай Первый с огромной дубиной в руке. За ним тянется длинная вереница скованных одной бесконечной цепью каторжан в серых арестантских халатах. Сгорбленные, спотыкающиеся, они медленно бредут, положив друг другу руки на плечи. Тема марша сплетается в оркестре с напевом революционных песен. Шествие каторжан обгоняет Александр Второй, разбрасывающий на ходу какие-то бумажки (“манифесты”, судя по замыслу). За ним грузно ступает тучная фигура Александра Третьего, поддерживаемого уродцем-“нетопырем” Победоносцевым. Свирепо озираясь, поплевывая в кулаки, царь играет на большой трубе. Все сильнее и грознее звучит хор каторжан»[95].
Кноблок вряд ли слышал об этой работе. Не упоминала о показе династии Романовых и присланная ему экспозиция Е. Кузнецова. Маяковский, как известно, воспользовался придумкой Смолича – Чекрыгина и включил этот эпизод в пантомиму. Но поэт преобразил его, стремясь придать цирковой характер, в «Табун памятников» (так была озаглавлена картина). Пародировались одновременно и цари, и их конные памятники, украшавшие обе столицы. Но к 1955 году все это наследие свергнутого строя было демонтировано (остались только скульптуры Петра Великого и Николая I в Ленинграде), поэтому никто из современных зрителей их попросту бы не узнал. По этой причине, ориентируясь на нового зрителя, Кноблок вернулся к шествию царей. Высмеивались при этом не их монументы, а сами самодержцы. Выход каждого превращался в развернутую клоунаду, в которой пародийно изображались и характер очередного «хозяина земли русской», и наиболее известные деяния времен его царствования.
Кноблок вспоминал, что родилась эта идея, когда ему стало известно, что на роль Николая II предполагается назначить М. Румянцева[96]. Небольшого роста клоун Карандаш, изображающий самодержца Российского, позволил художникам четко определиться в пародийной стихии, движущей, наряду с героическими эпизодами, развитие сюжета пантомимы. Художник понял для себя, что имел в виду Маяковский, постоянно призывавший к «оголенной публицистичности»[97]. Поэт не дал царю в своей «меломиме» ни одного слова, да и его участие в действии крайне ограничил. Борис Георгиевич, собрав воедино все известные ему факты личной биографии последнего российского императора и наиболее распространенные приемы выступлений цирковых клоунов, разработал насыщенную политическую буффонаду.
«Камергеры вывозят на арену огромную царскую кровать, точнее, некую помесь кареты с кроватью, где под балдахином и горностаевой мантией-одеялом в короне спало “Его величество”, – восстановил художник придуманное им антре царя. – Пробуждает его ото сна эксцентрическое исполнение камергерами “Боже, царя храни” на будильниках (камергеры – музыкальные клоуны – подхалимы-эксцентрики). Далее кровать увозили. На арене после ухода кровати оставалась золотая ночная ваза в форме короны. Шел номер одевания. С Карандаша снимали ночную русскую косоворотку до пят, предварительно дав ему царские “горностаевые” трусики. В государственной трехцветной майке с орлом, ночных лаптях со шпорами, с лейкой и лопаточкой-скипетром он поливал свой “цветник” – придворных, ожидавших его “выходки”. Он поливал все цветочное, что встречалось на пути, включая шляпки фрейлин и бутоньерки министров. За ним торжественно несли фотоаппарат на штативе с принадлежностями для проявления: красный фонарь, ванночки и пр. Сфотографировав кого-нибудь, он включал красный свет и забирался под первый попавшийся трен или кринолин статс-дамы, “проявлял” под ними и тут же милостиво дарил отпечаток счастливчику. Мимо униформы-дворников, стоявших на нижних ступенях лестницы, затем – все выше – мимо городовых, жандармов, высших чинов, генералов, министров царь добирался до трона»[98].
Это так подробно разработанное выходное антре Николая II в дальнейшем не пригодилось. Но подобным образом Кноблок решил преобразить появление каждого самодержца. Поведение их обязательно несло определенную информацию (известную всем по школьному обучению), а сам выход строился на приемах цирковой выразительности. Для каждого персонажа предлагался при этом всякий раз другой жанр. А чтобы зритель мог разобраться в происходящем на манеже, красные фигуры выносили плакатики с именами следующих за ними царственных особ.
Сохранившиеся эскизы (далеко не все) позволяют представить, что предлагал художник режиссерам.
Конную кадриль устраивали вокруг выезжающих в ландо и колясках Анны Леопольдовны, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны[99] их верные кавалеры, от чопорно педантичных лифляндских баронов до разудалого бывшего певчего, а позже графа и полководца Разумовского.
Толпа фаворитов выносила большую фарфоровую севрскую ванну с очаровывающей их обольстительно-затянутым пластическим этюдом Екатериной.
Демонстрацией высшей школы верховой езды предполагался выезд Николая I. Сам он, с виселицей в руке (намек на казнь декабристов), восседал на лошади, высоко поднимающей передние ноги (специалисты именуют такой шаг испанским). И так же высоко вздымая ноги, маршировали перед ним два гвардейца. А следом за лошадью шли, перебирая полусогнутыми ногами, два канцеляриста с горящими канделябрами на голове и гусиными перьями за ухом. Они придерживали за углы зеленое сукно стола, за которым вышагивал адъютант, строчащий за этим столом бесконечные распоряжения.
Была предложена и трюковая буффонада. Карета с Александром II, проехав полкруга, взрывалась, разлеталась на части. Из нее вылетали брюки с лампасами, мундир, эполеты, орденские ленты, медали, даже каркающие вороны. Набежавшие городовые мгновенно очищали манеж.
Александр III, который, как известно, был кряжист и массивен, представал сразу в четырех воплощениях. Он маршировал с винной бочкой, подвязанной перед животом, как барабан, и сжимал в обеих руках кружки, которые по мере надобности пополнял из кранов, установленных в днищах бочки. За ним маршировали еще двое, одной рукой ведущие под уздцы мощного приземистого коня, а другой покачивая дымящиеся кадила. И, наконец, четвертый, Александр восседал, вцепившись в повод, на тяжеловозе.
Так, один за другим, проезжали вдоль барьера и скрывались в главном проходе все царствовавшие особы.
Завершал этот парад самодержцев проезд моднейшего (по тем временам) «мотора». Николай II, в мантии и короне, сидел за рулем в шоферской кабине автомобиля. А в салоне ехал развалившийся Распутин, облапив еле заметную рядом с ним императрицу. Машину тянули впряженные в нее, как бурлаки, рабочий и пахарь. Их погонял, вышагивая рядом в полной парадной форме, генерал-полицмейстер.
Придумав феерические персонажи для своего «Парада-алле», Кноблок постарался таким же образом подать и декорацию пантомимы. Он создал на манеже буффонно решенную среду, в которой должно быть душно и тошно нормальному человеку. Сменяющаяся на манеже декорация должна представить всю Российскую империю, почитающую себя могучей и несокрушимой. Но при всем своем показном величии существующую и движущуюся только благодаря крестьянам и рабочим, которые – в буквальном смысле – тащут ее на своих плечах. Поэтому все элементы декорации откровенно выкатывались на манеж и укатывались с него.
Кноблок решил, что декорация в пантомиме не может просто обозначать место действия. Она, как цирковой аппарат, должна помогать артисту выполнить трюк, работающий на создание его манежного образа. Для эпизода «Штаны Его Величества» режиссерам был предложен особым образом изготовленный манифест, от которого царь, в припадке «медвежьей болезни», мог отрывать изрядный кусок. Для «Полиции на трапеции» в подкупольном пространстве располагались, превращенные в крыши, мостики воздушного полета и оформленные под водосточные трубы ловиторки. Взбираясь на них и перепрыгивая с одной на другую, рабочий уходил от преследования полицейских. А сами они, пытаясь остановить смутьяна, срывались и летели (на амортизаторах) до самой земли. Кноблок придумал и в макете проверил эффектный разгром забаррикадированной восставшими фабрики. Здесь художник решил объединить в теснейшем взаимодействии технические трюки (стекла, разлетающиеся от винтовочных выстрелов, всполохи огня, отлетающие куски кирпичной стены) с перемещениями по этажам отстреливающихся рабочих[100].
Все это требовало тщательной проверки монтажно-постановочных работ. Ведь в пантомиме предстояло использовать – как это принято в цирке – открытый огонь. К тому же здание должно было не сгорать, а разваливаться от артиллерийских залпов. И эти кирпичные глыбы должны были при падении обязательно оставаться на сцене. Для «Выстрела с “Авроры”» был придуман алый вымпел, летящий от носа крейсера и орудийной башни, появляющихся над оркестром, к дворцовым воротам, установленным на сцене.
При всех этих по делу и к месту придуманных частных моментах игровой подачи декорации, требовалось найти общую художественную концепцию пантомимы-феерии, ее броский художественный образ. Он должен был объединить и политическую непримиримость, которую требовал поэтический материал Маяковского, и откровенную зрелищность феерии. И решить это следовало в приемах, свойственных исключительно цирку.
Ведь цирк, в отличие от театра, предполагает совершенно иной угол восприятия происходящего – сверху вниз. Поэтому художнику предстоит прежде всего найти решение того фона, на котором обычно разворачивается цирковое действие, – ковра, выстилающего весь манеж. Ведь зрители именно на нем видят все происходящее.
Обрамленный нарядной барьерной дорожкой (феерия!), манеж в корявых булыжниках являлся основным местом действия. Здесь дефилировали, хвастая богатством и властью, «хозяева жизни». Здесь сражались за свое будущее угнетенные. Сюда на всеобщий показ, на народный суд вывозили на низких помостах-колымагах все необходимое для продолжения сюжета. Смена декораций превращается в действенную часть феерии. Никаких «полных перемен» в темноте. Здесь и перестановки – часть зрелища. Найти убедительное решение манежа и означало найти художественный образ цирковой пантомимы.
Однако значительнее всех буффонадных декораций и предложений (развернутых в эскизах) выйти в построении различных сцен на клоунское антре мобильной декорации, помогающей артистам в конфликтных ситуациях, помог найденный художником образ разрастающейся революции. Революции расстрелянной, но все равно обретшей силы и победившей.
Вспомнил ли Кноблок Ивана Шадра, который начал лепить прославившую его скульптуру к 20-й годовщине революции 1905 года, а показал на выставке в честь десятилетия Октября под названием «Булыжник – орудие пролетариата», или брусчатку Дворцовой площади, или булыжную мостовую Красной Пресни, не смог бы подтвердить и он сам. Ведь площади и главные улицы большинства городов, а Москвы и Ленинграда в первую очередь, были уже заасфальтировны. Булыжник уже ушел в историю, но перевоплотился в образ революции. В такую замощенную площадь и превратил Борис Георгиевич манеж. На сером окрасе булыги прекрасно читались любые цвета декораций и костюмов. Но Кноблок был не оформителем, а подлинно театральным художником. Он всегда стремился создать пространство для игры и видел главную задачу театрального художника в том, чтобы слиться с действием возможно теснее. И обладал, по утверждению А.А. Михайловой, «необходимыми для этой задачи качествами – чувством жанра, чувством сцены, чувством пространства»[101].
В «Москва горит» не текст, а зримый образ, равный по емкой убедительности стихам Маяковского, должен был воплотить атмосферу происходящего. Расстрелянная революция – это кровь на мостовой. И Кноблок придумал, как эту метафору сделать зримой.
Планировалась металлическая конструкция в диаметр манежа, позволяющая установить параллельную ему площадку. Она монтировалась из серых матовых фрагментов плексигласа, повторяющих форму булыжника. Оргстекло было настолько толстым, что могло выдержать тяжесть и людских масс, и конных отрядов. Эта площадка, снабженная внутренней подсветкой, могла поэтому окрашиваться в любой цвет.
Кроме того, в подсветке предусматривались окрашенные красным лаком электролампы индивидуального включения, расположенные в многокамерной изолированной конструкции мостовой. Зажигая их в определенных группах и последовательности, можно было добиться впечатления разливающегося кровавого пятна в любом месте булыжной мостовой. Наиболее эмоционально должно было воздействовать появление такого пятна непосредственно после винтовочного залпа. Весомо и зримо возникал образ расстреливаемой революции.
Но эти же заливающие булыжный манеж красные пятна могли обретать и другой смысл, если стреляли революционеры. Жесткое разделение на красных героев и белых карателей, воспитанное с детства, вызывало у всех зрителей нужную ассоциацию. И фигуры восставших, залитые красным светом прожекторов, шли по булыжникам, становящимся красными по мере их продвижения, – это создавало уже аллегорическую картину победы народа. Художник предлагал режиссерам возможность выстроить таким образом патетический финал. Вот как он передал словами зарисовки, которые постоянно варьировал на листах эскизов:
«Неправильной формы отдельные пятна, возникающие в хаотическом порядке, постепенно нарастая, заливали всю поверхность – мостовая захлебывалась в красной крови.
Через световую цензуру в алых лучах прожекторов на местах кровавых пятен, оживая, приподнимаются отдельные красные фигуры рабочих. Густая сетка кинжальных прожекторных лучей вновь накаляет мостовую докрасна.