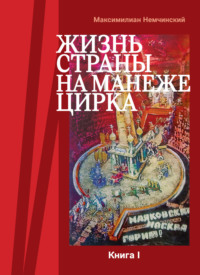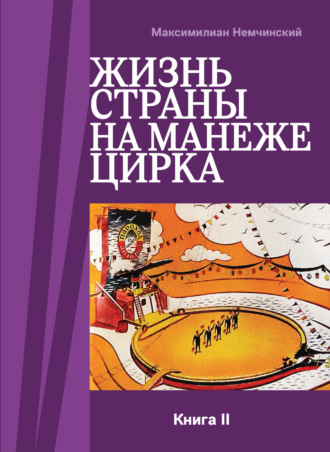
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987

Максимилиан Изяславович Немчинский
Жизнь страны на манеже цирка
Патриотическая цирковая пантомима отечественного цирка 1917–1987 гг
В 3 кн. Книга II
История создания. 1954—1987
Памяти Розетты
© Немчинский М.И., 2017
© Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2017
Отображение современности
«Выстрел в пещере» – Ленинград, 1954 г
Отечественный цирк стремился развиваться как постановочный. Поэтому еще с довоенных времен при каждом цирке страны существовал работник, отвечающий за художественный (читай – идеологический) уровень представлений. Он именовался артистическим директором, главным режиссером, художественным руководителем. Но круг его обязанностей не менялся. Впрочем, выполнять их было весьма затруднительно.
Ведь при существующей системе конвейера номеров артисты приезжали в город по разнарядке Главка буквально за день-два до объявленной уже смены программы. Да и то некоторые, чаще аттракционы, задерживались в предыдущем цирке, опаздывали на премьеру. Постоянные коллективы, собранные в которые артисты передвигались по стране в годы войны (так легче было организовывать их транспортировку), сочли нерентабельными и расформировали. Так что художественный руководитель, он же главный режиссер цирка, куда номера прибывали, еле-еле успевал составить их очередность в программе и наспех прорепетировать пролог, в котором приглашенный из театра артист читал обязательный монолог о связях цирковых артистов с советским народом и партией. Кроме того, постановочная работа предполагала обязательное создание новогодних елочных спектаклей, доходами от которых цирки кормились.
Только Москва и Ленинград пользовались привилегией отбирать номера для очередной смены программ. А их, по соблюдаемой еще традиции, полагалось четыре цикла в год. Мало того, к каждой премьере приглашенным артистам шились заново костюмы. А под выступления наиболее эффектных номеров расстилали яркие, изобретательно апплицированные, специально изготовленные ковры в край барьера. И танцовщицы балетных трупп (пока они не были расформированы) исполняли хореографический пролог, открывающий выход артистов. Впрочем, и в этих показательных цирках, чем дальше, тем с большей осторожностью, начали прибегать к пышной декоративности подачи номеров, чтобы избежать обвинений в низкопоклонстве перед Западом или формализме. Артистам, не успевшим еще по-настоящему оправиться после напастей военных лет, приходилось самым решительным (иногда – разрушительным) образом менять образную содержательность номеров, традиционные декоративное, костюмное и музыкальное оформления. Сборы падали. Задолженность перед государством росла.
В начале 1949 года, судя по публикациям прессы, обнаружены были наконец виновные во всех бедах отечественного цирка. Газета «Советское искусство», перепечатавшая передовую «Правды» об антипатриотической группе театральных критиков, опубликовала статью «Апологеты буржуазного цирка».
Николай Барзилович[1] поименно перечислил в ней тех, кого он обвинял в художественных, а тем самым идеологических, просчетах развития искусства на отечественном манеже. Тон статьи был категоричен. «Только полностью разоблачив космополитов-теоретиков и режиссеров-формалистов, насаждающих на аренах советских цирков чуждые буржуазные тенденции, советское цирковое искусство сможет добиться нового расцвета, стать подлинным выразителем духовной силы народов, населяющих нашу великую Родину»[2]. Первым назван был Е.М. Кузнецов. Его упорная многолетняя литературная и практическая работа по отстаиванию образной природы циркового искусства вообще и ее утверждение в деятельности государственных цирков, в том числе практическая пропаганда пантомим, даже не упоминалась. Кузнецов обвинялся в том, что «услужливо восхваляет растленное искусство буржуазного цирка». Уличены в том, что «уводят советский цирк с правильного пути, пытаются отравить его тлетворным духом буржуазного искусства», были и Б.А. Шахет с А.Г. Арнольдом, режиссеры, еще на предвоенном отечественном манеже фактически утвердившие постановочный цирк нашей страны.
Упомянутым в статье пришлось не только оправдываться, но и обороняться на специально собранном в Главном управлении цирков открытом партийном собрании. Все, объявленные виновными, пытались отмести напраслину, но были сурово, в духе времени, осуждены. Однако разоблачения разоблачениями, а все равно требовалось давать представления и выпускать новые номера, в которых контролирующие органы продолжали изыскивать недостатки. Для всех было очевидно, что изгнанную с манежа красочность и яркую образность требуется как-то восполнить. Работать над новыми программами предстояло в первую очередь тем, кто был объявлен пособником космополитов. Значит, всякий раз им следовало найти для представления форму, заранее гарантирующую от обвинений и в буржуазности, и в формализме. Самый, пожалуй, результативный, при этом и политически безупречный выход нашел Б.А. Шахет.
В системе Главка работало в то время, выступая с номерами, решенными в национальном стиле, значительное число обрусевших китайцев и корейцев. Воспользовавшись тем, что в конце 1949 года были провозглашены Китайская Народная Республика и Корейская Народно-Демократическая Республика, Шахет собрал все эти номера воедино и организовал Китайско-Корейский коллектив. Артисты эти выступали под своими фамилиями, в стилизованных национальных костюмах, с отличными ото всех прочих трюками, реквизитом, музыкальным сопровождением и темпераментом. У зрителей не возникало ни малейшего сомнения, что им удалось попасть на встречу с представителями дружеских народов, освободившихся от ига собственной буржуазии и иностранного колониализма. Тем более, что открывал программу пышный и пафосный парад с выносом советских, китайских и корейских знамен под сразу же завоевавшую популярность песню Вано Мурадели на слова Михаила Вершинина «Москва – Пекин». С оцененной политкорректностью Шахет поставил во главе коллектива Леона Танти, заслуженного артиста РСФСР и Грузинской ССР, объявленного в афишах художественным руководителем. Выступал тогда Леон Константинович с оригинальным номером музыкальной мнемотехники. Он ходил по местам, выслушивая пожелания зрителей. И стоящая посреди манежа его жена и партнерша Дора Бережинская исполняла на аккордеоне «внушенные» ей мелодии популярных песен. А завершая выступление, Танти просил уже оркестр сыграть песню, которую хотели бы услышать все зрители цирка, все народы нашей страны. И звучала «Песня о Сталине» Исаака Дунаевского. Танти, спустившегося на манеж, вновь окружали выходящие под знаменами участники программы. Политический и зрелищный пафос показа Китайско-Корейского коллектива был очевиден. Это нарядное и политически-выверенное представление проехало, собирая аншлаги, по циркам всех республик.
Но в стране на рубеже 40—50-х годов насчитывалось уже двадцать стационаров и одна передвижка. И программы в каждом из них должны были меняться четыре раза за сезон. Редкие из этих программ могли потягаться с созданием Б. Шахета как в художественном, так и в идеологическом содержании. К тому же всем было очевидно, что наиболее убедительно могла бы доказать политическую благонадежность цирка (к тому же увеличить сборы) постановка большой пантомимы. Об этом постоянно напоминали призывы самих артистов, постановления многочисленных собраний по развитию циркового искусства и, разумеется, журналисты. Понимали это и руководители Главка.
«Особое внимание мы хотим обратить на цирковую пантомиму. Этот жанр почти исчез с наших арен. С одной стороны, он яркий и занимательный, с другой – может нести значительную идейную нагрузку. Мы стремимся воссоздать жанр пантомимы в наших цирках»[3], – заявил Ю.А. Дмитриев, тогда заместитель начальника Главного управления, докладывая о художественном плане на 1949 год.
Спустя год Д.И. Кудрявцев, вновь назначенный исполняющим обязанности начальника Главка, вернулся к этой проблеме. Он доложил, что с писателем В.И. Катаевым, либреттистом-литератором Н.Д. Волковым и журналистом М.Н. Долгополовым заключены договоры на написание пантомим на современную тему. Творческому совещанию работников цирка было обещано, что полученный «безусловно доброкачественный материал позволит цирковому искусству в этом сезоне показать настоящую, полноценную, столь много лет ожидаемую советским зрителем пантомиму… что явиться переломным моментом в деле дальнейшего развития и узаконения этого забытого циркового жанра, являющегося весьма значительным фактором идейно-политического воздействия на зрителя»[4].
Появления пантомим ждали все. Она дала бы возможность отрапортовать о развертывании крупной постановочной работы на манеже. А заодно позволила бы продемонстрировать идеологический потенциал циркового искусства. Поэтому заказом сценариев дело не ограничивалось. Хотя к работе в цирке привлекали квалифицированных литераторов, Кудрявцев подчеркнул, что «резко повышены требования к качеству представляемых произведений». Он даже привел конкретные цифры. За 11 месяцев 1950 года в Главк поступило 700 рукописей, 200 из которых принято литературно-репетуарной частью, а 157 дорабатываются авторами[5].
Если над реализацией большинства этого материала трудились сами клоуны и музыкальные эксцентрики, то для воплощения в жизнь пантомимы требовался не только отвечающий запросам времени сценарий, но и режиссер, пожелавший осуществить его на манеже. В конкретных условиях цирка, скорее, наоборот, в другой последовательности – режиссер, выбравший себе сценарий для постановки. Руководство Главного управления цирков рассчитывало, что за дело возьмется постановщик, уже составивший себе имя в кинематографе или на создании сценических спектаклей. Само появление на цирковой афише такого имени являлось гарантией значимости и качества зрелища на манеже. Оно убедительно бы свидетельствовало, что директива о привлечения в цирк ведущих деятелей искусства выполнена. И дело, казалось, налаживалось.
«Г. Козинцев[6] в Ленинградском цирке возобновит пантомиму “Черный Пират” по сценарию Б. Чирскова»[7], – сообщила газета «Советское искусство». Впрочем, через несколько месяцев она, так же кратко и убедительно, опубликовала другие сведения: «Ленинградский цирк в новом сезоне поставит пантомиму Б. Чирскова на современную тему. В настоящее время над пантомимой работают режиссер Ф. Эрмлер, художник М. Бобышов и композитор А. Ходжа-Эйнатов»[8]. Однако ни заявленные кинематографисты не пришли на помощь цирку, ни объявленные пантомимы не были поставлены. Приглашенных мастеров захлестнули свои литературные, театральные и кинонеприятности. Рассчитывать цирку снова пришлось на своих штатных режиссеров. Но тем хватало обвинений, получаемых за постановку программ. Поэтому столичный, по самому своему статуту показательный цирк сознательно отказывался от такой дополнительной ответственности, как работа над пантомимой.
«Московский цирк, по сути дела, лишь “прокатывает” готовые номера, – констатировал Б.А. Эдер. – А ведь он должен задавать тон всем нашим циркам. Этого в его творческой практике пока нет. Вот уже несколько лет москвичи не видели ни одного действительно нового выступления. Между тем в Ленинграде, хотя и не всегда удачно, но все же ведутся постоянные поиски нового»[9]. К такому положению настолько привыкли, что даже руководство Главка возлагало надежды на создание пантомимы именно в городе на Неве, а не в Москве. С другой стороны, это дополнительно страховало от возможных непредвиденных просчетов постановки, на которую неожиданно могло явиться высшее руководство. К тому же худрук Ленгосцирка Г.С. Венецианов[10] сам постоянно обращался с просьбами разрешить ему работу над большими обстановочными спектаклями.
Такая настойчивость объяснялась весьма прозаично. В цирк необходимо было вернуть зрителей. Ленинградцы ощущали это значительно острей, чем Москва, привычно рассчитывающая на постоянно меняющихся командированных. Цирк утратил былой блеск и притягательность. Ведь до сих пор не удалось восстановить поредевшее за годы войны поголовье животных, конюшен дрессированных лошадей в первую очередь. Да и идеологические запреты, обернувшиеся расформированием большого количества музыкальных и клоунских номеров, а также отказом от традиционных (могущих показаться буржуазными и уж точно прозападными) костюмов, отпугивали от цирка. Представления на манеже утратили былую зрелищность и все больше напоминали показательные спортивные упражнения. Оставалась вера, что пантомима – зрелище массовое, динамичное, остросюжетное, эффектно-неожиданное – вернет цирку его былую популярность.
Впрочем, став худруком Ленгосцирка[11], Г.С. Венецианов ухитрился проявить еще большую творческую активность.
Сразу же по вступлению в должность он решил, не ожидая помощи от Главка, приступить к воспитанию при цирке новых артистов самых востребованных жанров, которые по ходу обучения могли бы принимать участие во всех постановочных работах на манеже. При поддержке директора он добился открытия двух студий-мастерских по конной акробатике и музыкальной клоунаде. Для создания клоунского репертуара удалось привлечь к работе довольно значительную группу писателей. Они трудились над репризами для коверных, над юмористическими диалогами музыкальных эксцентриков, над злободневными сценками для артистов, лишенных права продолжать смешить публику в буффонадных, объявленных космополитическими образах. Они писали стихотворные прологи, подчеркивающие убежденный патриотизм показываемых на манеже представлений. Венецианов со своим авторским активом искал новые, проходимые формы, чтобы вернуть манежу былую славу.
«В настоящее время цирк совместно с группой драматургов нашего города работает над созданием нового сюжетного произведения, где на равных правах с пантомимическими сценами должно звучать острое плакатное, политически целеустремленное слово, – заявил Ленгосцирк в рекламной брошюре на сезон 1948/49 года. Одной из интереснейших форм подобного рода, излюбленной зрителями, всегда была “водяная пантомима”. Возобновление этого жанра, уже 12 лет как исчезнувшего с циркового манежа, потребовало серьезной технической подготовки, дающей возможность в течение нескольких минут мощным каскадом воды превратить манеж в бассейн, вполне пригодный для плавания, лодок и для прыжков в воду, а также создать фонтаны, бьющие одновременно из нескольких точек под самый купол»[12].
Перед ленинградцами, замахнувшимися на постановку пантомимы, стояли еще две проблемы. Какой бы сценарий ни был в конце концов создан и одобрен Главреперткомом, в развитии сюжета любого предполагалось присутствие проверенных технических аттракционов, гарантирующих зрительский успех пантомимы. Поэтому требовалось восстановить, а по сути выстроить заново все оборудование, необходимое для подготовки и показа водяной пантомимы. Это прежде всего. А во-вторых, следовало воспитать технический коллектив, умеющий управляться с водными котлами, баками, трубопроводами, соплами, преобразованием манежа в бассейн, монтажом и обслуживанием взрывающегося моста, а также переменой декораций на манеже и сцене. Естественным казалось, что обучение это разумнее всего провести при постановке дважды осуществленного в Ленинграде «Черного Пирата». Тем более, что сохранились помрежевские листы, в которых поэтапно были расписаны действия каждого участника технического обслуживания пантомимы.
Еще в 1934 году при повторной постановке для облегчения прохождения сценария всячески подчеркивался антифеодальный характер этой традиционной пантомимы на манеже. Действительно, в классическом сюжете сластолюбивого графа (он же – терроризирующий окружающих Черный Пират), который похищал из-под венца невесту, убивал ее жених, простой крестьянин. Теперь тема сословного противостояния героев была усилена кинодраматургом Г.Б. Янгфельдом, приглашенным в авторы сценария. Но на этот раз, при повышенном идеологическом контроле не помогало даже утверждение, что это – цирковой вариант тираноборческого «Овечьего источника» Лопе де Вега. Новая версия была отвергнута. Тогда Венецианов предложил, чтобы не отпугивать работников реперткома, заменить «пантомиму», как определение жанра будущего спектакля, на «монументально-синтетическое сюжетное представление», что позволяло объяснить необходимость присутствия в нем плакатного, политически целеустремленного слова. В последнем варианте, к написанию которого в помощь Янгфельду был привлечен опытный сценарист Б.Ф. Чирсков, от старого либретто остался, пожалуй, один только сюжетный ход. У пантомимы появился даже придуманный общими усилиями подзаголовок – «Вольный мститель». В новом варианте под прозвищем и плащом Черного Пирата скрывался уже не развратный граф, а защитник угнетенных селян. После его гибели, надев черный плащ и маску народного мстителя, сражался за свою любовь, спасая похищенную невесту, Жан Мартель. Чтобы разрушить недоверие к бессловесному действию, создатели пантомимы решились добавить финальный диалог с социальным разъяснением происходящего.
Г р а ф. Я повесил тебя, а ты жив… Я стрелял в тебя. Я видел, как ты упал!.. Ты сам дьявол!
Ж а н М а р т е л ь. Я – человек! И убить нас нельзя… Нас много![13]
Хотя все оборудование, необходимое для подготовки и показа водяной пантомимы, было восстановлено и заново отстроено (за что руководство Ленгосцирка получило впоследствии строгий выговор Главка), работа эта ничем не завершилась[14]. Последний, безупречный, казалось бы, вариант сценария был в числе прочих, «чуждых советскому цирку буржуазно-эстетских, формалистических номеров»[15], отвергнут решением общего собрания парторганизации Главка.
Очевидным становилось, что ставку необходимо делать на пантомиму, поднимающую современную проблему. Это обостряло трудности. Ведь будущий спектакль ни в коем случае не должен быть ни безыдейным, ни формально-отвлеченным. Поэтому и отбор возможных тем, и создание вариантов, пригодных для их циркового преобразования, был длителен и тщателен. Благодаря этим поискам впервые оформилась идея создания пантомимы, посвященной одной из грандиозных послевоенных строек. Работа приняла столь реальные формы, что Венецианов сообщил о ней как о состоявшемся факте. «Наиболее ответственной нашей задачей в новом сезоне является постановка большой водяной пантомимы “Победа в пустыне” – так условно называется ее сценарий, – писал он уже в 1951 году. – Тема спектакля – великий сталинский план преобразования природы. Постановочную бригаду возглавляет заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии Г.А. Товстоногов»[16].
Впрочем, выпуск водяной пантомимы, обещанный еще в 1949 году, не удалось осуществить и в 1951-м. Не помогло даже участие в работе режиссера, ставшего одним из популярнейших в Ленинграде.
Постоянно получая непредвиденные отказы в осуществлении представляемых Главку сценариев, Венецианов мало того, что изобретал к каждому циклу развернутые обстановочные прологи, ухитрялся создавать своеобразные тематические спектакли. Персонально разоблаченный на собрании как «буржуазный эстет», насаждающий в цирке и студиях «формализм и худшие образцы буржуазного мюзик-холла»[17], он всякий раз старался подкрепить избранные темы неоспоримыми идеологическими обоснованиями.
Так, возможность сослаться на стокгольмское воззвание постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, на котором особо была отмечена роль женщин в борьбе за безопасность человечества, позволила выпустить программу «Женщины – мастера цирка». Представление, в котором на манеж выходили исключительно артистки, от воздушной гимнастки Раисы Немчинской до дрессировщицы львов Ирины Бугримо-вой, безусловно заинтересовало зрителей. Даже конюшню дрессированных лошадей Бориса Манжелли выводила его жена Антонина Ивановна. А в качестве коверного клоуна была приглашена любимица Ленинграда, артистка Театра музыкальной комедии Г. Богданова-Чеснокова. Правда, здесь Венецианов перестраховался. В помощь ей он оставил Бориса Вяткина, постоянного тогда коверного Ленгосцирка, с его собакой Манюней. Но каждое его появление особо обыгрывалось. Гликерия Васильевна, одетая в нарядное вечернее платье, ловко проделывавая все традиционные клоунские репризы, исполнявшая написанную для нее когда-то Дунаевским пародийную вариацию алябьевского «Соловья», каждый выход Вяткина неукоснительно прерывала: «Уходите, Борис! Здесь же одни женщины!»
Был Венециановым создан спектакль «Родине любимой», состоящий фактически из трех самостоятельных спектаклей, разделенных антрактами. В первом, посвященном сбору урожая в колхозе «Победа», все участники номеров были переодеты в стилизованные сельские одежды, в том числе и комик, получивший роль комбайнера. Даже специально написанная клоунада развивала избранную тему и рассказывала о том, как хитроумный бедняк боролся с мироедом и становым. Все номера, от акробатов-прыгунов на русских качелях Вениамина Белякова до «Русской тройки», подготовленной жокеями-наездниками Александра Сержа, объединяла праздничная музыка Исаака Дунаевского к только что вышедшим на экраны «Кубанским казакам». Второе отделение целиком было отдано решенному в русском плане аттракциону смешанных животных Ивана Рубана. Бывший кузбасский шахтер, он появлялся в клетке, одетый в русскую рубаху навыпуск, под руку с огромным медведем в сарафане, а покидал манеж, взвалив на плечи довольно крупного медведя. Третье отделение превращало в своеобразный спектакль то, что все оно посвящалось искусству цирка братских республик Страны Советов. Даже клоуны представали в образе тифлисских кинто. Они выезжали на осликах, что сообщало цирковой работе дополнительный национальный аромат. Российскую Федерацию представляли акробаты Ивана Федосова, прыгающие не просто по манежу, а через выстроившиеся в ряд автомобили отечественного производства. Завершал спектакль полет на вращающейся над манежем ракете Виктора Лисина и Елены Синьковской. В финале номера из рук гимнастов разворачивался алый вымпел, летящий за ними следом, а затем, вырвавшись на свободу, опускающийся вниз и опоясывающий барьер. Выходом юных будущих авиаторов с моделями планеров и самолетов в руках, окружающих вернувшихся на землю космолетчиков, завершался спектакль. А начинался он прологом, в котором одни за другими появлялись воины, защищавшие в прошедшие лихолетья нашу Отчизну от всяческих захватчиков и напастей.
Ухитрился Венецианов даже поставить программу, в которой второе отделение начиналось водяным каскадом, за считанные минуты заполняющим манеж, а все номера демонстрировались в бассейне или над бассейном. Маленький спектакль, названный «Праздник на воде», стал по тем временам действительно цирковым праздником, поддержанным выступлениями спортсменов, бьющими под купол фонтанами и фейерверком.
Следующей постановкой, опять же на одно отделение, стал «Карнавал на льду»[18]. Тогда в нашей стране не было еще ни одного зала с искусственным льдом[19]. Это стало еще одной причиной успеха спектакля. Впервые в истории отечественного цирка вышли на лед жонглеры, акробаты, эксцентрики, танцоры. Даже эквилибристу на слабо натянутой проволоке Олегу Попову, только начавшему осваивать профессию клоуна, принесшую ему мировую славу, пришлось встать на коньки.
Эти оригинальные спектакли гарантировали цирку аншлаги и обогащали постановочный опыт Венецианова. Но мечту о создании большой цирковой пантомимы он не оставлял. Одновременно с выпуском программ и новых художественных редакций приглашенных на гастроли номеров Георгий Семенович постоянно готовил сценарии пантомим, на востребованные, по его убеждению, темы. Столь же постоянно Главк их отклонял.
Все это получило чисто цирковое завершение. Москва переслала Венецианову либретто, самотеком поступившее в репертуарный отдел от поэта Сергея Острового[20].
«Я давно думал над созданием современной пантомимы, которая бы, сохранив в себе основные элементы этого жанра (трюки, яркую зрелищность, увлекательный сюжет), могла бы предельно использовать разновидности циркового искусства, – писал Сергей Георгиевич. – Таким сюжетом для пантомимы я называю ГРАНИЦУ – со всеми ее особенностями: боевой напряженной жизнью и отдыхом. Во-первых, это дает возможность предметно показать, воспеть мужество, силу, ловкость и героизм пограничников, не считающихся ни с какими опасностями. Во-вторых, это привлечет внимание к теме бдительности (кстати, тут в гротесковом плане можно показать и ротозея).
Условно (повторяю, очень условно!) я это себе представляю так: вначале мы видим заставу в часы отдыха. Люди, свободные от нарядов, развлекают друг друга. Вот группа солдат показывает свое искусство на турнике, вот в халате – из-под которого видны сапоги – смешит друзей фокусник-иллюзионист. Вот номер с дрессированной собакой. Вот куплеты на международную тему под баян или гитару. И т. д. и т. д.
Тревога! Начальник заставы объявляет о том, что границу удалось перейти нарушителю. Вырубается свет. Идут стихи. И вот мы видим, как за нарушителем начинается погоня. Скачут лошади. Идет высокий класс джигитовки. Нарушитель отстреливается.