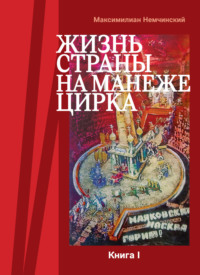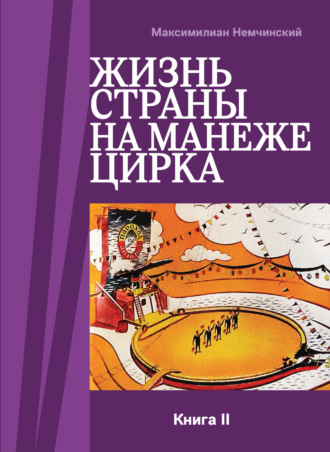
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
Как ни условны цирковые номера, обе стороны – и режиссер, и, со своей стороны, авторы – стремились найти возможность тематического, соответствующего развитию сюжета пантомимы их преображения. Или же искали пути приспособления номеров к тому месту и той потребности, которые диктовали условия их демонстрации. Акробаты-прыгуны, например, исполняющие роль пассажиров, должны были перемахнуть через барьер в прыжковых комбинациях, держа в руках спортивные чемоданчики (которые они оставляли на барьере, а окончив выступление, разбирали и проходили на посадку). Воздушные гимнастки взбирались по веревочным лестницам к своему аппарату из танцующей группы сигнальщиц парохода. Это переосмысление участвующих в спектакле номеров не прекращалось до выпуска пантомимы, когда начали появляться номера, присылаемые по разнарядке.
Иногда к средствам трюковой выразительности прибегали для оправдания сюжетного поворота. «Все связки имеют одну и ту же цель, – отметит позже тот же М.А. Тривас, анализируя приемы построения организованного действия на манеже и эстраде, – в веселой, а по возможности, и смешной форме усилить удельный вес идейного содержания в концерте, объединив номера в одно целое»[132].
Но прежде всего следовало убедительно продемонстрировать обоснованность любого поворота сюжета. Режиссер, увлеченный другими, более важными для него проблемами, часто не задумывался над тем, что создателям сценария представлялось принципиальным. «Прошу Вас учесть следующее: прежде мы, не очень-то ясно представляя себе, как это все получится на манеже, не очень настаивали на предлагаемых нами решениях, – диктовал авторский ультиматум Тривас. – Теперь, точно представляя себе, что из чего выйдет, мы просим Вас отнестись с большим вниманием к нашим предложениям. В частности, мы категорически настаиваем на том, чтобы в I отделении в сцене фотографирования снимающиеся сделали какой-либо акробатический трюк (если нужно, введите в эту группу акробата, пусть хоть стойку выжимает). Иначе совершенно непонятно, почему Синичкину пришло в голову заменить медведей цирковой самодеятельностью (выделено автором. – М.Н.)»[133].
Сюжетный ход «Анюты», задуманной как клоунская пантомима, разыгрывала «Семерка веселых». Роли были распределены среди участников группы, согласно их индивидуальностям и тем манежным образам, в которых артисты привыкли выходить к зрителям. Ни к какому перевоплощению ни артисты, ни режиссер не стремились. Клоуны разыгрывали ряд комических интермедий, складывающихся в несколько самостоятельно развивающихся сюжетных ходов. Молодой сварщик пытался остаться на пароходе, куда он проник без билета (документы остались в одежде, которую он сбросил, спасая упавшего в реку ребенка). Состоятельный стиляга добивался согласия приглянувшейся ему девушки. Мать стремилась принудить строптивую дочь принять брачное предложение выгодного жениха. Затесавшийся среди пассажиров кляузник изводил всех претензиями.
Массовик-затейник пытался всячески активизировать пассажиров для «здорового отдыха». Администратор цирковой программы сопротивлялся настояниям своего помощника и молодежной команды отсмотреть самодеятельные выступления для замены аттракциона опоздавшего к отплытию дрессировщика.
Последний сюжетный ход являлся сквозным, держащим оба отделения пантомимы.
Все эти перекрещивающиеся действенные линии разворачивались, как правило, на репризном тексте. Интрига держалась на основных сценах, каждая из которых строилась на четком контрдействии. Синичкин стремился остаться на пароходе – его пытались высадить на берег. Светлана и Синичкин ощущали взаимное влечение друг к другу – мать Светланы, навязываемый ею жених и втершийся им в доверие кляузник всячески этому препятствовали. Вплоть до того, что объявляли Синичкина сбежавшим пациентом психбольницы. Это давало повод для бесчисленных погонь, но и обеспечивало помощь герою со стороны молодежной команды и пассажиров. Опоздание на пароход дрессировщика медведей, грозившее срывом выступления перед строителями ГЭС, заставляло молодежь откликнуться на призыв Синичкина составить это представление из самодеятельности матросов и пассажиров. Таким образом, оправдывалась демонстрация в пантомиме любого количества номеров, присланных по разнарядке, и готовился успех показа все время откладывающегося аттракциона бурых медведей (дрессировщик успевал, разумеется, в последний момент добраться до парохода)[134].
Чтобы не на словах, а на деле подчеркнуть достоинства героя пантомимы Синичкина, именно ему позволялось спасти случайно упавшего в реку ребенка и стать инициатором замены выступления медведей номерами самодеятельности.
Хотя пантомима и заявлялась как клоунская, было очевидно, что все ее персонажи должны обладать и еще какой-либо цирковой, точнее – трюковой характеристикой, выступая при этом в жанре, отвечающем образу этого персонажа. Особенно это касалось положительных лирических героев. Героини прежде всего. Но так уж получилось, что, выбранная на роль Светланы миловидная Вера Иванова, хотя и обучалась в училище как воздушная гимнастка, надежд, возложенных на нее, не оправдала[135]. И Рябчуков, и авторы пытались найти выход. Первоначально они предполагали, что этому поможет исполнение ею циркового номера. «Без Вас работать очень трудно. Не только потому, что Ваш светлый оптимизм скрашивает наше скучное торопливое существование, но и оттого, что без Вас очень многое не знаем, – пишет Тривас. – Какой же номер у Светланы?» Не дождавшись вразумительного ответа от Рябчукова, авторы придумали карнавальный «Парад “звезд”», в котором Светлана должна была завоевать первое место. «Прошу Вас написать, попробовали ли Вы В. Иванову, и какой она оказалась? – настаивает Тривас. – Ели она и в самом деле так хорошо поет, как она уверяет, – надо ей писать пышный, с хором, куплет песни». Спустя еще четырнадцать месяцев, заканчивая новый вариант сценария, уже для повторного выпуска пантомимы, он пишет: «Так как Светлана ничего не может сделать, скрепя сердце, пришлось соглашаться на нелепость: объявить выборы звезды (в ходе карнавальных игр. – М.Н.), ничем не закончив этот сюжетный мотив»[136].
Не повезло и с лирическим героем. Молодой Валерий Колесников, хотя и вполне профессионально владел словом, зазывной актерской харизмой не обладал.
На что можно было точно опереться, так это на профессиональное мастерство участников «Семерки». Авторы по просьбе режиссера сосредоточились на сценах с их участием. Каждую из них старались отточить до емкой выразительности клоунады со словесным или трюковым разрешением. В первую очередь следовало скорректировать характер поведения ведущих персонажей в расчете на актерские возможности уже имеющейся клоунской группы.
Анатолий Векшин, профессионально играющий на многих музыкальных инструментах, в том числе и на саксофоне (объявленном в те годы утехой стиляг), и владеющий сатирическим диалогом, обладал всеми качествами для создания роли подобного лоботряса. Викентий Масловский, сатирик-эксцентрик, приспособил свои вокальные данные и умение пародировать всевозможные танцы к образу привередливого скандалиста. Администратором стал Александр Глущенко, бывший драматический артист с хорошим нервом, овладевший на манеже нелегким ремеслом «рыжего» в буффонадной клоунаде. Борис Романов представал в облике и меланхоличного массовика, и раздраженного парикмахера, и замордованного носильщика, и в нескольких карнавальных масках, каждый раз меняясь до неузнаваемости. Все паузы заполнял в образе разбитной бабы-бидонщицы, самозабвенно включающейся в любую заварушку, Сергей Курепов, успевший поработать и в парном антре, и соло-коверным, а потому умеющий легко импровизировать. Петр Клементьев, неторопливый и медлительный, умеющий во всем быть на подхвате, стал цирковым экспедитором. Сергей Анохин, статный, с хорошо поставленным голосом, когда-то резонер-«белый», к тому же – руководитель группы, убедительно соответствовал роли капитана парохода. Под стать этому сыгранному ансамблю была подобрана на роль матери-мещанки яркая комедийная артистка Евдокия Краснокутская. Среди этих артистов и предстояло распределить решающие игровые эпизоды пантомимы – и уже существующие, и вновь создаваемые по заказу режиссера. «Пишем все по своему разумению, – сообщал Тривас, – с тем, что в последнем, надеюсь, варианте, который придется делать уже в Ростове, когда все исполнители будут на месте, – уточним все вместе с Вами»[137].
В результате напряженной работы (были созданы четыре варианта, каждый из которых обсуждался и в репертуарно-художественном отделе, и на режиссерских коллегиях Союзгосцирка) появился сценарий, который всем инстанциям (режиссеру и авторам в том числе) показался вполне пригодным для начала непосредственной постановочной работы. Он выстроился в конце концов как игровая клоунская пантомима, объединившая все доступные цирку средства выразительности: мимическое антре, разговорную интермедию, танцевальные фрагменты, вокал (пародийный, фольклорный, молодежно-песенный), игру на музыкальных инструментах и профессиональную игру на инструментах эксцентрических (эксцентрическое исполнение на распространенных в быту гитарах, аккордеонах, саксофоне), трюковое разрешение всех, допускающих это сцен, и, разумеется, целостные цирковые номера.
Задуманная как комическая пантомима, «Анюта» должна была с самого начала восприниматься зрителями как клоунский спектакль. После прикидок различных приемов, позволяющих именно так заявить ее на манеже, авторы и режиссер нашли убедительный игровой ход. Спектакль решено было начинать выходом труппы, прямо на глазах у зрителей из подручных средств создающей пароход. Униформисты в матросках колыхали застилающий манеж голубой ковер. И по этой цирковой воде из форганга в главный проход «плыл» корабль. Его борта образовывали широкие полотнища с нарисованными иллюминаторами, которые несли матросы-танцовщицы (предполагалось, что иллюминаторы зажгутся по ходу следования). По бокам парохода крутились, подобно колесам, акробаты-прыгуны. Вместе с кораблем манеж пересекали капитан со штурвалом в руках и его помощники, пароходная труба (ее несли стоящие в плечах друг у друга акробаты), группа поваров, мачта (один эквилибрист нес на поясном перше другого с зюйдом в поднятой руке). Завершал шествие маленький матрос, который тащил огромный якорь.
Только после того, как это шествие-пароход скрывалось за занавесом главного прохода, на манеже должен был развернуться пролог – погрузка на судно. В нем, в череде законченных клоунских интермедий, перед зрителями проходили все персонажи, в коротких эпизодах проявляющие свои характеры и взаимоотношения.
Работа авторов и режиссера над текстом велась и в ходе репетиций. Никак не удавалось найти возможность представить ведущего персонажа, Синичкина не просто как лирического героя пантомимы, а как передовика производства. Уже перед самым выпуском решено было между импровизированным парадом и прологом непосредственно самой пантомимы ввести как бы документальный эпизод, где бы эта проблема была четко обозначена и решена.
На манеже появлялся режиссер-инспектор и, обращаясь к публике, интересовался, не присутствует ли в зале Василий Иванович Синичкин, которому адресована пришедшая на адрес цирка телеграмма. Спустившийся из рядов Синичкин зачитывал вслух эту телеграмму, которой он, как лучший экскаваторщик, работавший на стройке первой очереди электростанции, пригашался на ее торжественный пуск.
В принятом к работе варианте, сохранившем ведущий сюжетный ход – отбор цирковых самодеятельных номеров матросов и пассажиров, – более тщательно была разработана параллельная лирическая линия. Здесь Василий Синичкин и Светлана уже не мгновенно влюблялись друг в друга, встретившись на причале. Их чувство заявлялось как прошедшее испытание временем. Из диалога становилось понятно, что они еще студентами симпатизировали друг другу, но жизнь развела их тогда. Вася был вынужден уйти из института, освоил профессию экскаваторщика, поработал на стройке и снова продолжает учебу, но уже на заочном. А Светлане, уже выпускнице, мать решила дать возможность отдохнуть перед практикой. Заодно, воспользовавшись поездкой, выгодно выдать замуж. Выбранный ею для дочери жених, сын состоятельного отца и стиляга, путешествует с ними. На пароходе к их компании присоединился еще один прощелыга, директор магазина случайных вещей. Все персонажи получили знаковые фамилии. Директор именовался Нарциссом Склопиковым, богатый сынок – Аполлоном Трищенковым, а мамаша-мещанка была названа разоблачительно-претенциозно Хризантемой Евлампьевной. Такой же «говорящей» фамилией – Малюткин – был наделен авторами и экспедитор цирка. Предполагалось, что на эту роль должен быть назначен исполнитель крупного телосложения и высокого роста. В группе «Семеро веселых» такого не оказалось. Фамилия осталась, хотя задуманного смехового эффекта произвести уже не могла. Впрочем, и характеристики персонажей, и взаимоотношения между ними выстраивались как комедия положений. На языке цирка это предполагало наличие самостоятельных клоунад и репризных трюков.
Первым таким фрагментом становился выход на причал, в который был преображен манеж, администратора и экспедитора цирка в сопровождении носильщика с огромным ящиком на плечах. Администратор никак не мог определиться, с какого места причала начнется посадка на пароход, и носильщику приходилось несколько раз снимать с плеч и вновь взваливать тяжеленный груз. Так классическая клоунада «Разгружай – нагружай», благодаря диалогу, трансформировалась в эпизод пантомимы. Склопикова, опаздывающего к отплытию и появляющегося с намыленной щекой, догонял парикмахер, требующий с него плату за бритье. Фамилия, соединяющая в себе «склочника» и «клопа», достаточно полно характеризовала этого героя. А один из первых его поступков отметал все сомнения. Расплачиваясь, Склопиков вручал мастеру 20 копеек за бритье, а еще 40, полагающиеся за одеколон, отказывался платить, возвращая мастеру надушенную салфетку. Первой же фразой полностью характеризовался и завидный жених Аполлон. «Я вам помогу!» – заявлял он, поднимая чемоданы нареченной невесты и будущей тещи, и, передав вещи им, налегке поднимался на пароход. Приспособлено к сюжету было и фехтование соперничающих из-за Светланы Синичкина и Аполлона. В рифму проходящей почти через все первое отделение погони санитаров и врача за Синичкиным, объявленным сумасшедшим, во время карнавала, открывающего второе отделение, Аполлон начал разыскивать Светлану среди разыгрывающих его пятерых девушек, надевших одинаковые домино. Во второе отделение переместили эпизод и с переодеванием в медвежью шкуру. Здесь, среди карнавальных превращений, он стал более уместным. Мать Светланы и Склопиков были объединены на карнавале в исполнении вокально-танцевальной сцены «Петушок и Русалка». Даже администратор организовывал здесь, став одним из его участников, выступление пародийного ансамбля «Березка». Нашли возможность включить в действие и такую безотказную клоунаду, как «Торт». Тортом команда камбуза награждала Синичкина, спасшего пассажиров от вырвавшегося из клетки медведя. Однако, в силу недоразумения, торт этот оказывался на физиономии недруга героя. «Вкуснота-то какая! Везет же человеку! – завершал клоунаду массовик. – Пойдемте, отмоемся, товарищ Склопиков!»
Рябчуков собирался ставить клоунскую пантомиму, более того – развернутую буффонаду. В этом направлении авторы перерабатывали словесный материал. Такой режиссер хотел видеть и декорационную сферу, в которой буффонадному сюжету предстояло развиваться.
Художником пантомимы был приглашен А.П. Фальковский. Александр Павлович, довольно давно и плодотворно к тому времени работавший над цирковыми костюмами, вспоминал, как мучился, принявшись за оформление «Анюты», над поиском ее художественного образа. «Простое, ясное решение, как это часто бывает, пришло совершенно неожиданно. Его подсказал сам характер пантомимы. Пантомима комическая – пароход, следовательно, также должен быть “клоунским”!»[138].
И он предложил преобразить в этот клоунский пароход сам манеж.
Над форгангом располагался, обнесенный поручнями, капитанский мостик. По его центру был, как и положено, закреплен штурвал, а за ним поднималась пароходная труба. По бокам площадки находились вращающиеся вентиляционные раструбы, а так как пароход был клоунский, то оформлены они были под рыбьи головы с широко раскрытыми ртами и приспособлены для появления в них и из них членов команды. По переднему краю капитанского мостика стояло пять красных пожарных ведер, на каждом из которых была выписана одна из букв названия парохода. С мостика на палубу (манеж) спускались два никелированных трапа с высокими поручнями (а еще два, невидимые для зрителей, шли на мостик со стороны конюшни). Трапы эти, как и конструкция, поддерживающая мостик, опирались на широкую двухступенчатую площадку, придающую корабельную строгость входу во внутреннее помещение (то есть на конюшню). За правым трапом, на стенке, поддерживающей мостик, крепился на кронштейне большой колокол-рында, отбивающий склянки.
В прологе, при посадке на пароход, и трапы, и конструкцию мостика перекрывали сверкающие никелем заграждения, украшенные большими якорями и спасательными кругами с надписями «Причал № 2». Открытым оставался лишь проем под капитанским мостиком, куда и проходили прибывающие пассажиры.
Пространство под мостиком, отгороженное аккуратной корабельной переборкой с четкой линией заклепок, могло трансформироваться. Оно было совершенно открыто в прологе при посадке на пароход. Перекрыто сплошной стеной с большим застекленным иллюминатором (за которым мог появляться нужный персонаж), когда действие разворачивалось на палубе. Закрывалось разрезанными вертикальными полосами парусины. Или же – красочным занавесом во время карнавала. А так как пароход вез своих пассажиров на открытие ГЭС, то в финале в этом затемненном проеме должны были вспыхнуть электрические огоньки заработавшей станции.
Еще одна конструкция возвышалась у главного прохода над барьером (его ворота были убраны). Это был нос парохода со всеми положенными, несколько утрированными атрибутами: люком, ведущим в трюм, кнехтами для чалки, иллюминаторами-глазами и внушительным, сверкающим начищенной медью якорем[139].
Нос парохода соединял с рубкой капитанского мостика барьер. А палубу этого пузатого парохода, сам манеж, укрывал желтый, в цвет хорошо надраенной палубы, ковер (такого же цвета была ковровая дорожка, идущая по верху барьера-борта), расписанный под дощатый настил. От боковых проходов на палубу-манеж шли крутые трапы с поручнями. Для карнавала во втором отделении, в проеме под мостиком появлялся расписной занавес, верх барьера закрывала ярко-нарядная баранка, менялось и покрытие манежа. А так как на финал спектакля планировался по сценарию медвежий аттракцион, «палуба» закрывалась круглым дощатым расписным полом (к этому времени все дрессированные медведи в нашем цирке уже ездили если не на мотоциклах и велосипедах, то на роликах).
Над мостиком, целиком его перекрывая, возвышался под углом, повышающимся к манежу, тент, отороченный подборами. Эти матерчатые края, расписанные бело-голубыми волнистыми линиями, могли, как французская штора, опускаться, закрывая мостик с трех сторон. А за всем этим сооружением поднималось к самому верху купола широкое полотнище. Поверх нарисованных на нем волн и летящих чаек располагался большой спасательный круг с надписью «Пароход “Анюта”». Внутри круга было написано «идет». Планировалось, что вставка из театрального тюля даст возможность дирижеру (оркестр оставался на своем месте над форгангом) следить за происходящим на манеже. Кроме того, эта вставка, становящаяся прозрачной при внутреннем освещении, позволит делать видимым любого персонажа, стоящего за полотнищем.
Все подкупольное пространство пересекали фалы с флагами расцвечивания. Они поднимались и к штамберту воздушного аппарата, который приобретал от этого вид корабельной реи. Тем более, что на его краях были закреплены рабочие веревочные лестницы, напоминающие ванты. А во втором отделении, во время карнавала, под куполом загорались разноцветные праздничные фонарики.
Декорации получились четкими, яркими, конструктивными, выигрышными для всех перемен мест действия. А главное, предельно открытыми для всевозможных массовых перестроений. В пантомиме рассчитывали занять до 100–150 участников, поэтому необходимо было предоставить режиссеру и балетмейстеру как можно больше места для маневра.
Разумеется, запланированы были всевозможные световые эффекты. На манеж предстояло проецировать струящиеся волны. По куполу и полотнищу с названием парохода должны были проноситься облака и парить чайки. Важная роль в карнавальном преображении парохода отводилась люминесцентному освещению. Оно должно было расцветить и маскарадные костюмы второго отделения.
Хотя Рябчуков перед выпуском «Анюты» и уверял рецензента, что, «сохраняя буффонадную цирковую специфику, мы добиваемся, чтобы каждый костюм, а тем более парики и гримы были бы реалистическими»[140], он несколько лукавил. Почти все клоуны были снабжены накладными носами с различной формы усами. Костюмы же, хотя и обыденные, бытовые, уже в эскизах радовали ярким зрелищным колоритом. Избегая пестроты, четко сочетая цвета и в каждом конкретном костюме, и в общем цветовом решении пантомимы, Фальковский явно ориентировался, по договоренности с Рябчуковым, на изобразительные приемы народного лубка, яркого и лаконичного.
Подчеркнуто цирковая преувеличенность взаимоотношений отозвалась в одеждах положительных персонажей (основной массы участников пантомимы, заполняющих манеж) только насыщенным цветом одежд или щеголеватым кроем форменных костюмов команды, от капитана до матросов-униформистов. Одежды положительных персонажей, повторяющие повседневные костюмы и платья того времени, отличались только более активным, чем у выпускаемых швейной промышленностью вещей, цветом. Это особенно ярко проявлялось в тех сценах, где действующие лица заполняли весь манеж. Даже праздничной зрелищности костюмов танцовщиц удалось добиться самыми скромными средствами (этого прежде всего требовала быстрота переодевания). Основой был целиковый купальник с открытыми плечами в бело-голубую, как матросская тельняшка, полоску. Его на отдельные выходы дополняли то коротенькие черные брючки до колена и задорные береты, то поварские колпаки и передники, цветные косынки на шее, а на выход дрессировщика – блестящая униформа. Во время карнавала девушки несколько раз переодевались в различные маскарадные костюмы. А в финале пантомимы появлялись в длинных вечерних платьях.
Что касается тех героев, к которым предлагалось относиться как к комическим, то к их внешней характеристике Фальковский подошел более изобретательно. Сохраняя бытовую основу костюма, художник постарался придать ему юмористический, даже сатирический вид. Это авторское отношение создавалось тщательно продуманными, разнообразными и узнаваемыми деталями туалета или отражалось в изменении размера одежды. Помощник капитана, невысокий и чрезвычайно плотный, получил едва сходящийся на нем китель. Администратор, напротив, был одет в летнюю просторную белую парусиновую пару, брюки которой поддерживали подтяжки. Аполлон, как и положено стиляге, щеголял во всем модном, от сандалий до пиджачка с укороченными по локоть рукавами (последний писк моды). Его облик дополняли узенькие усики и обязательный кок. Фальковский, как когда-то В. Ходасевич, предлагал персонажам в эскизах и грим. Клоуны позже, в спектакле, им с благодарностью воспользовались, даже скорректировав вместе с режиссером под него свои роли. Костюмы Масловского, как и положено директору магазина случайных вещей, объединяли совершенно несопоставимые детали – от умопомрачительных лацканов пиджака до среднеазиатской тюбетейки. Такими же случайными казались и его усы. Даже администратор получил большие круглые очки и моржовые усы. В роскошных костюмах появлялась мамаша героини. Несмотря на внушительные размеры актрисы, все эти костюмы повторяли модный силуэт песочных часов. Высокую прическу, прозванную «бабеттой» (в ней щеголяли все, считающие себя модными, женщины страны)[141], прикрывала яркая шляпа горшком, донышком кверху. Уже в рейсе Хризантема Евлампьевна, успев переодеться в яркое японское кимоно, прохаживалась по палубе, прикрывшись таким же ярким японским зонтиком. Положительная дочь, в отличие от матери, пленяла всех светленьким платьицем и распущенными по плечам волосами.
Праздником для художника стала необходимость переодеть всех участников пантомимы в маскарадные наряды для карнавала, открывающего второе отделение. Но и здесь он постарался сохранить общую стилистику спектакля. «В костюмах и гриме, – подчеркивал А. Фальковский особенности своего подхода к оформлению комической пантомимы, – мною также были использованы элементы гротеска, утрировки бытовых деталей, аксессуаров, во многом решенных в подчеркнутом характере лубка»[142].
Пантомима, задуманная как череда законченных самостоятельных буффонад, прослоенных цирковыми номерами, требовала и непривычного музыкального решения. Современное по теме, молодежное по возрасту участников зрелище изначально предполагалось насытить отвечающими развитию сюжета, но самостоятельными песнями и танцами. Поэтому выбор и пал на М.Е. Табачникова. Разностороннего дарования композитор, Михаил Ефимович был широко известен своими песнями (среди них была даже созвучная названию пантомимы «Цветочница Анюта»), но создавал и оперетты, и музыку к кинофильмам, всякий раз, как и в своих песнях, улавливая неожиданные ритмические и мелодические звучания избранной темы и жанра.