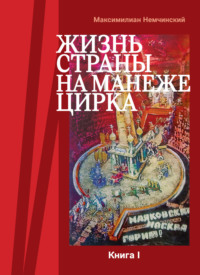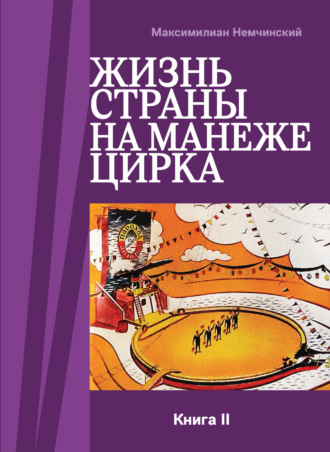
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
В финале символические группы красных рабочих, монументально скульптурно скомпонованных на пламенеющей булыге, как бы зажигали своими развернутыми знаменами все пространство цирка, заливая алым цветом все до купола включительно. И рухнувшая оттуда черная масса двуглавого орла, символа ненавистного порядка, в корчах сгорала, пожираемая пламенем и клубами дыма»[102].
Все согласились, что художественный образ пантомимы найден.
В качестве композитора был приглашен Ю.А. Левитин. Прекрасный мелодист, создатель опер и ораторий, одна из которых была отмечена Сталинской премией, автор музыки ко многим художественным фильмам и еще большему количеству мультипликационных, он стал популярным благодаря песням, исполняемым Марком Бернесом. К работе над пантомимой он был привлечен просто по стечению обстоятельств. Два года назад на экраны страны вышел фильм «Арена смелых», посвященный молодым артистам цирка. Хотя лента и именовалась документальной, снята она была в специально отстроенном на «Мосфильме» помпезном павильоне и составлена из фрагментов случайно собранных номеров. Фильм напоминал показательный театрализованный концерт. Но его музыкальное сопровождение убедительно подчеркивало различие жанров и темпов выступлений артистов. Г.С. Венецианов, консультировавший этот фильм, порекомендовал композитора, вместе с которым работал над постановкой номеров и программ, к участию в создании пантомимы. Юрий Абрамович охотно принял предложение написать музыку для пантомимы, тем более планировавшейся к показу на столичном манеже. Ведь после злосчастного постановления об опере «Великая дружба» оркестр Московского цирка числился среди лучших музыкальных коллективов страны. Он был пополнен профессиональными исполнителями и увеличен до состава большого симфонического.
Левитина особенно привлекла возможность объединить в одном музыкальном материале фрагменты, поднимающиеся до патетических высот, и темы городских мещанских (а потому запретных) мелодий. Он написал развернутые, богато интонированные композиции для героических картин. А для буффонных номеров были созданы потешные оркестровые номера. Ведь работа над мультфильмами приучила композитора к созданию произведений, легко вбирающих интонацию фольклора, маршей, бытового романса.
Музыка к пантомиме не представляла собой целостную музыкальную симфонию. Она, следуя структуре постановки, распадалась на четыре законченных, самостоятельные номера. Иногда это были тематические сюиты, определяющие длительность и ритм картин. Так решалось музыкальное оформление картин «Подпольная типография», «300.000 тысяч бросили работу», «Штурм фабрики» и «Выстрел с “Авроры”». В картине «На баррикады! (Страстная площадь)» оркестр подхватывал начавшееся без аккомпанемента пение «Варшавянки» и, помогая разразившейся схватке сплотившихся с рабочими горожан против конных и пеших царских солдат, переходил в трагедийно-героическую сцену. Для «Пирамиды классов» и объединенного с нею «Парада царской династии» был написан пародийный, со скачущим ритмом помпезный марш. Он исполнялся симфоническим оркестром цирка, но порой в его звучание вторгался «живой» звук духовых инструментов и большого барабана марширующих по манежу военных музыкантов. Бурлацкая «Эх, ухнем!..», разработанная под частушечный лад, сопровождала все перестановки, в ходе которых на глазах у зрителей меняли на манеже декорации. Несколько раз оркестр имитировал исполнение на шарманке заунывной «Разлуки». И, разумеется, открывала пантомиму увертюра, в которой мелодии современных массовых песен переплетались с песнями революционными. Планировалось и развернутое завершение апофеоза, но его написание задерживал отсутствующий текст хоровой песни, заканчивающей намечающееся феерическое зрелище.
Уже в начале сентября Левитин проиграл собравшейся постановочной группе почти все заказанные номера. «Отлично!» – записал в дневнике Е. Кузнецов. Байкалов на прослушивание демонстративно не явился.
Хотя цирковая пантомима, поддержанная интонационно точно подобранной музыкой, и подразумевает, что все происходящее на манеже должно быть понято без слов, политическая оценка событий должна быть четко сформулирована и донесена до зрителей. Маяковский это понимал и именно на таком приеме и построил свою «Москва горит». Ее новую версию так же следовало соотнести с сегодняшним днем. Связь времен должна была быть не только показана, но и подтверждена поэтическим словом. Энергичным, кратким, лозунговым.
Выбор Н.Н. Асеева и С.И. Кирсанова как поэтов, которых следовало бы привлечь к доработке сценария, был предсказуем. Ведь в их творчестве литературоведы всегда находили развитие поэтических принципов Маяковского. Они и сами разделяли подобную точку зрения. Оба еще до войны опубликовали поэмы, ставшие поэтическим доказательством этого утверждения. Асеев издал «Маяковский начинается». Кирсанов – «Пятилетку», которую завершил с энергичным максимализмом:
В тюремных камерах, в шахтах узких,всюду, где сдавлен локаутом цех —знают: пятилетка не только для русских,а для французов, для немцев, для всех!Пятилетка и негру стала роднаи китайцу, что спину над рисом клонит,и индусу, бунтующему, видна —пролетарии мира! Рабы колоний,генеральная линия есть одна:мы для вас нажимаем на труд втройне,небывалой мчим быстриною,коммунизм построим в одной стране, —ваше дело: построясь к борьбе стройней,СДЕЛАТЬ МИР ОДНОЮ СТРАНОЮ. (выделено автором. – М.Н.)[103].Именно С. Кирсанова удалось уговорить принять участие в работе над пантомимой (Асеев сразу и без объяснения причин отказался[104]).
Обратившись к постановке пантомимы спустя четверть века после ее написания, следовало как можно ярче показать неизбежность того взрыва народного гнева, который и стал ее сюжетом. Но пятидесятилетняя дистанция между пресненскими боями и современностью позволяла из этой исторической перспективы иначе взглянуть на самою власть, пытающуюся усмирить ощутивший свою силу народ. Теперь можно и нужно было подчеркнуть смехотворность усилий защитников отжившего свое строя в борьбе с обрушившейся на них революционной силой. Принципиальная, выстроенная Кузнецовым установка постановочного, а значит, идеологического решения пантомимы, получит позже отражение в отборе исполнителей. На роли отрицательных персонажей будут отобраны лучшие клоунские силы советского цирка. И в расчете на это разрабатывались сатирические вкрапления в действия.
Кирсанов не только убедительно справился с этим заданием, но даже написал буффонадную интермедию с участием царя, в которой ухитрился изложить, по сути дела, всю предысторию декабрьского восстания. Интермедия располагалась между эпизодами «Пирамида классов» и «Подпольная типография». Ее, как самостоятельный эпизод, завершающий парад самодержцев Российских, представляли зрителям два ведущих.
«П е р в ы й а р т и с т (объявляет).
“Предсказание будущего”.
Участвуют:
попугай Первый и Николай Второй. У кого слабые нервы – домой.
В т о р о й а р т и с т. История страшная —
как стонала под царской пятою
Россия вчерашняя.
Крошечный царишко-Николашка останавливается. Полу огромной горностаевой мантии держит гигант-жандарм.
Н и к о л а ш к а (что-то визжит, обращаясь к жандарму).
Ж а н д а р м. Предсказатель —
тут еще?
П о п у г а й. Тут еще.
Н и к о л а ш к а (визжит жандарму).
Ж а н д а р м. Августейше Всемилостивейше приказываю:
Предсказать мне будущее!
П р е д с к а з а т е л ь. Слуш ваш ертск вличство, предсказываю!
А ну, попка,
тяни гороскоп-ка,
тут их целая стопка.
(По указанию предсказателя попугай вытягивает листок.)
П р е д с к а з а т е л ь (отбирает листок у попугая).
Так, попка, так…
П о п у г а й. Царррь кррровавый дурррак.
П р е д с к а з а т е л ь (зачитывает листок).
Гласит предсказание: Предстоит тебе царь, кровавый январь, захлебнешься народною кровью.
Н и к о л а ш к а (что-то визжит жандарму).
Ж а н д а р м. Их императорское величество указывает, что с ними сие уже это было! И кровь, хе-хе не повредила высочайшему здоровью!
Предсказывай поновей!
(По указанию предсказателя попугай вытягивает листок.)
П р е д с к а з а т е л ь (отбирает у попугая и зачитывает листок).
Потерять тебе, царь,
на японской войне неисчислимое количество русских сыновей!
Ж а н д а р м. И это было,
и не повредило их императорскому величеству.
(По указанию предсказателя попугай вытягивает листок.)
П р е д с к а з а т е л ь (отбирает у попугая и зачитывает листок).
Предстоит тебе, царь,
опасная
встреча,
опаснее, чем русско-японская сеча:
в первый раз
с рабочим народом
встреча
с глазу на глаз!
Н и к о л а ш к а (дико визжит, закатываясь).
Ж а н д а р м. Кто смеет царю
такие сулить предсказания?!
Отдаю приказание:
взять, арестовать, в кандалы
заковать, ать, ать, ать…
П о п у г а й. Царрь кровавый дурррак…»[105].
После этого на манеже начинался серьезный рассказ о героической борьбе пролетариата.
Внезапный перерыв в работе над выпуском пантомимы, вызванный и неожиданной подготовкой молодежной программы для Всемирного фестиваля молодежи, и упорным противодействием со стороны Московского цирка, смешал все запланированные сроки проведения репетиций в пассивный период, между программами летнего и зимнего сезонов. Под срывом оказался и график показа пантомимы. Все это требовало срочной и решительной активизации работы.
Становилось понятно, что выпуск пантомимы к Октябрьским праздникам – о чем упоминалось в стихотворном тексте, дописанном Кирсановым, – никак не состоится. Необходимо было успеть хотя бы к годовщине 1905 года. Кроме объективных причин, дело тормозило отсутствие поддержки со стороны дирекции цирка. Байкалов до сих пор не мог смириться с тем, что постановку пантомимы Маяковского именно в столичном цирке включили в план художественно-творческой работы на 1954–1955 годы без предварительного согласования с ним. «Николай Семенович в цирке был настоящим хозяином: строгим, придирчивым, своенравным и беспокойным. Штат держал, что называется, в ежовых рукавицах. Любой литературный материал, который приносили авторы, в первую очередь попадал в его руки. Только после одобрения директора репризу или текст передавали режиссерам, – вспоминал Ю.В. Никулин, к которому Байкалов питал предрасположение. – Трения директора цирка с Главком достигали порой такой остроты, что для улаживания конфликтов приходилось вмешиваться вышестоящим инстанциям»[106].
Следовало, наконец, окончательно определиться с исполнителями пантомимы. Участие в ней конной группы «Али-Бек» (Кантемировы), учащихся Циркового техникума, клоунской группы техникума[107], клоунской группы Центральной студии циркового искусства было закономерно и даже не обсуждалось. Следовало пригласить хор, духовой оркестр, пловцов и пловчих спортивного общества «Трудовые резервы», подкрепление из подшефных воинских частей. Но и это было делом привычным.
Сложность представлял выбор основных исполнителей.
Хотя спектакль и планировался как феерия, активно использующая все средства цирковой выразительности, в ней должен был достойно прозвучать текст поэта, ведь, по меткому замечанию А.К. Гладкова, «все слова Маяковского должны подаваться, как на блюдечке, курсивом»[108]. Это в первую очередь касалось ведущих. К этому времени уже отказались от мысли, что они должны предстать в образах Музыкального и Рыжего клоунов или в облике клоуна-публициста, наподобие Виталия Лазаренко. Тем более, что сама фактура задуманного спектакля отвергала облик Глашатаев, прописанный Маяковским. К тому же фактическим героем и сквозным персонажем пантомимы становился Рабочий. В него, по замыслу авторов, перевоплощался современный рабочий, посетивший с друзьями места декабрьских боев 1905 года и приехавший с ними в цирк на Цветном бульваре, в котором показывалась пантомима о том героическом времени. Эту связь поколений зрителям предлагалось домыслить самим, потому что роли современника и героя пантомимы исполнял один и тот же артист. На его же долю приходился и основной революционный текст. Поэтому исполнителя такой роли было решено искать на стороне. Выбор пал на всенародных любимцев, известных каждому по кинофильмам, Николая Крючкова (признанный вожак) или Михаила Кузнецова (пылкий романтик). В сценах, требующих цирковой выучки, киноартиста незаметно подменяли или акробат, специализирующийся на каскадах и прыжках в партере (в этом можно было положиться на турниста Михаила Николаева), или, для перелетов под куполом цирка, гимнаст (вольтижер воздушного полета с амортизаторами Анатолий Вязов). На роли Ведущих, которые и представляли феерию и могли участвовать в ее эпизодах, планировались молодые, обаятельные, прекрасно сложенные прыгун-рекордсмен Владимир Довейко и гимнаст Виктор Лисин[109], постоянно открывающие прологи программ, в которых участвовали их номера, чтением стихотворных монологов, а также свободно владеющие разговором на манеже коверные клоуны Евгений Бирюков и Анатолий Векшин, выходящие здесь, разумеется, не в масках своего амплуа.
Что касается других, как правило, клоунских и буффонных ролей, то для них предстояло собрать лучших комиков советского манежа. Вопрос о Карандаше-царе считался уже решенным. Но и остальных требовалось отыскать настолько же профессиональных и популярных. Выбор пал на клоунов из группы «Семеро веселых»: А. Глущенко, А. Юсупова, А. Лагранского, на более опытных П. и Л. Лавровых, П. Тарахно, А. Дубино и Н. Березовского.
Кирсанов понимал, что, согласившись на участие в переделке пантомимы Маяковского, он не оберется упреков и со стороны почитателей поэта, и тех, кто считал его политизированным рифмоплетом. Но желание увидеть воскрешенной работу старшего друга заставило его в конце концов дать согласие. При этом Кирсанов поставил условием, чтобы его фамилия упоминалась лишь как сценариста и автора интермедии. Кузнецов за такую формулировку радостно ухватился. Ведь это гарантировало, что автором «Москва горит» остается Маяковский, да еще к этой, крайне значимой для афиши цирка, фамилии присоединяется такой крупный поэт, как Семен Исаакович.
Кирсанов, кроме буффонной интермедии, в которой был задействован царь, и мелких вставок, требующихся корректурой нескольких картин, написал стихотворный диалог, открывающий вступление в пантомиму, и поэтический текст для апофеоза.
Хотя все сроки были нарушены[110] и практические работы по осуществлению декораций и костюмов, перестройке манежа и воссозданию водного хозяйства и не начинались[111], Кузнецов продолжал борьбу за осуществление пантомимы. Эскизы и макеты Бориса Кноблока, костюмы, разработанные А. Тарасовым, обещали феерическое зрелище. Яркие мелодии, полные трагической, возвышенной патетики и самой бесшабашной, злой буффонады, написал Юрий Левитин. Доходчивые стихи, необходимые для финала пантомимы, привез вернувшийся после отдыха на Кавказе Кирсанов. Поэт выполнил обещание, данное самому себе у гроба Маяковского. Строфы, предшествовавшие апофеозу (и становящиеся сердцевиной апофеоза), разворачивали финальные строки последней, так и недописанной поэмы. Общими стараниями поэта и режиссуры эта связь стала бы очевидной для всех явившихся в цирк на задуманный спектакль.
…После того, как восставшие врывались в ворота Зимнего дворца, после того, как черный герб-орел падал из-под купола на пылающие булыжники манежа и сгорал, живой Маяковский на кинокадрах, снятых в Колонном зале, провозглашал (звучала фонограмма голоса поэта и ее повторяли надписи по всему куполу):
Отечество славлю, которое есть,И трижды — которое будет!К пылающим над сценой цифрам «1905» и «1917» добавлялись яркие «1955». По всему цирку вспыхивали на всех языках слова «Мир», «Дружба» и, образовав светящуюся спираль, начинали движение, кружа и увлекая за собою весь цирк. Под самым куполом молодой гимнаст в спортивном костюме с надписью «СССР» на груди произносил заключительный монолог:
Друзья! Когда свободен труд,– то крылья у людей растут! Все, что века мечталось людям, —мы превращать в реальность будем!И атом будет нам служитьи помогать нам лучше жить!Зальем мы ночи морем света…На мгновение вспыхивали все фонари, отсветы колыхающихся вод бассейна заполняли все вокруг.
Где скажем: Сад! Там будет сад!Тотчас купол заполняли световые деревья, цветы, клумбы.
Там, где зима — устроим лето!Прикажем — хлынет водопад!И, например, вот здесь — арена,нам стоит лишь взмахнуть рукой —весь цирк немедленно, мгновенноЗальет весеннею рекой.П е р в ы й и в т о р о й а р т и с т ы (стоящие каждый на своей трапеции, по бокам говорящего).
Не может быть… тут… где арена…весь цирк? Немедленно? Мгновенно?Гимнаст. Да! Стоит лишь взмахнуть рукой!Первый и второй артисты. Рукой взмахните, очень просим, — чтоб тут весною стала осень!ГИМНАСТ. Все в этом мире в нашей власти! Вода — Пускай течет вода! Ведь наше будущее — счастье, весна на долгие года! Итак, весенняя вода, немедленно, теки сюда — во славу мира и труда![112]Ответом на эти слова под призывный сигнал горна из-под самого купола в манеж обрушивался мощный водопад. И сам бурный поток, и его капли, разлетающиеся по всему амфитеатру, непрестанно меняли цвет в лучах прожекторов. И гимнаст, словно увлеченный этим полетом, начинал накручивать, посреди движения воды и света, бесконечные круги на вращающемся лопинге.
И вдохновенное слово, и мощный водный аттракцион, и захватывающий цирковой трюк, сливаясь воедино, поддержанные взметнувшимся к самому куполу звучанием хора, становились продуманным чудом, воздействию которого невозможно было противиться.
Ничего этого зритель не увидел.
Приказы начальника управления цирками не срывать установленные сроки выпуска пантомимы ни к каким ощутимым результатам не приводили. И Ф.Г. Бардиан вынужден был просить вынести вопрос о показе пантомимы «Москва горит» в торжественные дни 20-летия первой русской революции, генеральной репетиции, по словам В.И. Ленина, революции Октябрьской, на коллегию Министерства культуры. Но так случилось, что коллегию эту вел сам министр Н.А. Михайлов. Он сразу же прервал докладчика, когда тот заговорил о патриотическом и гражданском значении постановки Маяковского в цирке. «Политика и… цирк?.. Надо ли?..»[113].
Постановили, что не нужно.
И хотя были придуманы и продуманы в эскизах, макете, чертежах декорации, созданы эскизы костюмов, разработан принцип увеличения объема циркового бассейна, определены, стянуты к Москве участники пантомимы и второго, номерного отделения спектакля, все было остановлено и отменено.
Цирковую пантомиму трудно придумать, но еще труднее осуществить.
Клоунская пантомима
«Пароход идет “Анюта”» – Ростов-на-Дону, 1961 г. «Салют смелым» – Горький, 1969 г
В 1959 году управляющий Главком Ф.Г. Бардиан добился разрешения отметить 40-летие государственного цирка. Не остановило даже то, что декрет о национализации зрелищных предприятий был подписан в августе, когда у стационаров страны наступал период межсезонья. Празднование решили провести на стадионе. Газеты наперебой сообщали об этом. Наиболее притягательным был призыв «Олег Попов приглашает вас на “Динамо”»[114].
Разумеется, для этого спектакля собрали лучших артистов. Двое всадников в белых одеждах на белых лошадях, Дзерасса Туганова и Валерий Денисов, под оркестр столичного цирка, усиленный приглашенными музыкантами, четко демонстрировали перед 54 тысячной аудиторией фрагменты высшей школы верховой езды. Над полем зависали два вертолета с закрепленными под их фюзеляжами трапециями. Гимнастические трюки Раисы Немчинской и Доната Моруса казались еще сложнее из-за неимоверной высоты, на которой они исполнялись. Гаревую дорожку стадиона заполняла пестрая кавалькада. Открывала ее праздничная, пестро одетая, бурлящая толпа клоунов[115]. Движущиеся за ними колонны мотоциклов с колясками и без колясок и разукрашенные грузовики с откинутыми бортами провозили вдоль всего стадиона артистов, исполняющих трюки всевозможных цирковых жанров. Завершал этот круг почета Олег Попов, клоунская машина которого то вытягивалась, то превращалась в восьмерку, а то, как с удовольствием писал рецензент, «и совсем пропадала в клубах дыма»[116].
После кавалькады начиналось само представление. Превосходные артисты, кажущиеся, правда, совсем игрушечными посреди футбольного поля, работали по всему стадиону. На специально выстроенных конструкциях и под стрелами подъемных кранов мелькали фигурки воздушных гимнастов. По высоко растянутым канатам бегали и танцевали канатоходцы, проносился на мотоцикле эквилибрист. В разных местах поля кружились ренские колеса, перебрасывали обручи, булавы и тарелки жонглеры, строили акробатические пирамиды, крутили, разбежавшись, сложнейшие прыжки акробаты. А всадники Северной Осетии мчались вдоль трибун с трюками отчаянной джигитовки.
Но главенствовали клоуны. В ходе представления на различных участках поля разыгрывались антре и на бытовые, и на международные темы (текст транслировали репродукторы). Но основные комические интермедии исполняла разномастная клоунская толпа, которая открывала кавалькаду.
Довольно быстро после открытия праздника начинался «марафонский бег», который возглавлял Олег Попов. Он шел, как и положено на стадионах, по гаревой дорожке фактически на всем протяжении представления. А в паузах, во время смены номеров, «марафонцы» разыгрывали всевозможные недоразумения, которые комментировал диктор. Но основным, ударным комическим аттракционом циркового праздника на стадионе, как было задумано, стал клоунский футбольный матч. Он также шел под комический комментарий (Юрий Благов написал и для матча, и для марафонского бега специальный репризный текст). Дополнительным сюрпризом для поклонников футбола явилось то, что комментировать встречу команд «артистов цирка» и «болельщиков» пригласили любимца всей страны Вадима Синявского.
Время показа масштабного представления было рассчитано таким образом, что, начавшись при дневном свете, оно заканчивалось в лучах прожекторов. А в финале свет на стадионе вырубался, и завершал праздник, по законам цирковых феерий и пантомим, грандиозный фейерверк.
Эта, по словам газет, «волнующая демонстрация достижений советского цирка»[117] вобрала в себя все лучшее, что было придумано и проверено при показе цирковых программ на стадионах. Ведь один из постановщиков праздника цирка на «Динамо» Е.А. Рябчуков (в московском спектакле ему помогал М.С. Местечкин) был инициатором создания специального коллектива, организованного для летних выступлений в открытых спортивных сооружениях страны[118].
К середине 1950-х годов было отремонтировано немало стационаров и началось строительство новых во многих республиках (как правило, в их столицах). Тем не менее значительное количество населенных пунктов было лишено возможности увидеть цирковые представления. Директора крупных цирков устраивали иногда выездные спектакли. Но они, как правило, преследовали чисто коммерческие цели. Ведь неприспособленность стадионов к подобным зрелищам (здесь отсутствовало и необходимое освещение, и места крепления аппаратуры) не позволяла механически переносить манежное зрелище на нецирковую площадку. Однако стремление освоить эти масштабные открытые помещения было велико. Соблазняло огромное количество неохваченных цирковым зрелищем зрителей. С другой стороны, хотя и начались почти регулярные зарубежные гастроли специально собранных для этого коллективов, оставалось еще немало артистов, которых требовалось трудоустроить на летний период. Решить обе эти проблемы одновременно (добившись при этом значительных финансовых выгод) и позволило проведение цирковых представлений на стадионах. Хотя вместительных зрелищных помещений в городах не хватало, чаще они попросту отсутствовали, всегда имелись окруженные зрительскими трибунами футбольные поля. В небольших городах и стадионы были поменьше, чем в областных и районных центрах, но в каждом городе размеры спортивных сооружений позволяли за два-три раза, а где и на одно выступление собрать почти все городское население на гастроли Московского, как обещали афиши, цирка.