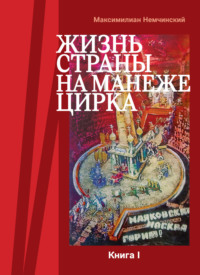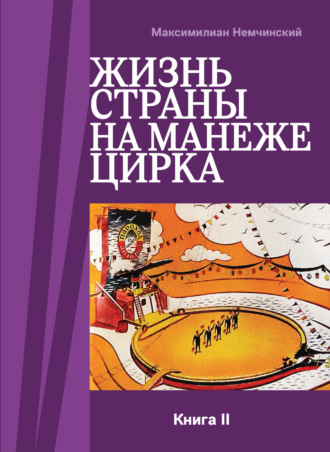
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
Заявленный подобным образом герой легко становился участником любого, раньше и без его присутствия самодостаточного эпизода. В подпольную типографию он мог бы явиться за прокламациями. Мог распространять листовки, а потому и спасаться от преследования («Полиция на трапеции»). Мог, как это и предложил Маяковский, организовать митинг возле памятника Пушкину («На баррикады!»). Чтобы сохранить трагический накал сцены, от офицерской пули мог бы погибнуть не он, а упомянутый автором подросток. Это позволяло Рабочему войти во все последующие картины. Он мог принять участие в сражении с ротой Семеновского полка, сплотить единомышленников после декабрьского поражения («Смолкли залпы запоздалые»), возглавить штурмующих Зимний дворец («Безглавый орел»). Ведь именно свержением царизма и следовало завершать пантомиму, премьера которой планировалась к очередной годовщине Октября.
Ради такой трактовки представлялось возможным даже отказаться от обязательного в цирковых пантомимах финального водопада. Впрочем, хорошо понимая, какое противодействие вызовет подобное предложение у администрации, Кузнецов не закрепил этой мысли на бумаге.
Разумеется, осуществление такой крупной идеологической, принципиальной для цирка работы требовало одобрения контролирующих жизнь страны органов. Кузнецову повезло. В директорской ложе цирка он столкнулся с заместителем министра культуры В.С. Кеменовым (тогда еще работники этого учреждения посещали цирковые представления). Им удалось переговорить об уместности блеска и пышности в цирке, о необходимости установить творческие связи с зарубежными коллегами, но, главное, о желании возобновить на манеже постановки пантомим, и, в частности, в связи с приближающимся 50-летием революции 1905 года той, что была написана В. Маяковским. Кеменов предложил отложить обсуждение проблемы до появления сценария, чтобы разговор мог стать конкретным.
Желая убедиться в правильности выбранной им позиции в обработке произведения Маяковского, Кузнецов напросился на встречу с Н.В. Петровым, в глубине души рассчитывая, что тот в дальнейшем примет на себя постановку пантомимы.
Начиная с 20-х годов Евгений Михайлович как руководитель Театрального отдела ленинградской «Красной газеты» постоянно рецензировал постановочные опыты Николая Васильевича во многих театрах северной столицы, вплоть до тех, которые он осуществлял как художественный руководитель на сцене, уже переставшей именоваться Александринкой и еще не получившей имени А.С. Пушкина. Эти годы научили их с интересом относиться друг к другу. Более тесно они сошлись, когда Петров режиссировал «Тайгу в огне», одним из соавторов которой был Кузнецов. Ему вдвойне было интересно мнение Николая Васильевича, так как тот совсем недавно вместе с С.И. Юткевичем и В.Н. Плучеком выпустил на сцене Московского театра сатиры после 24-летнего перерыва «Баню» Маяковского. И сделали это режиссеры, вспомнив театральную молодость, с тем «цирком и фейерверком», которых требовал поэт от постановщиков своей драмы. С энтузиазмом принятый зрителями спектакль был положительно оценен (кроме отдельных замечаний) даже прессой. «Остро раскрывая сатирическую направленность пьесы, театр вместе с тем ярко показывает ее героическую линию, связанную с пафосом борьбы за первую пятилетку, – четко обозначил постановочную концепцию спектакля Театра сатиры Б.И. Ростоцкий. – Режиссура, верная мысли Маяковского, понимала, что без раскрытия героики пьесы не будет до конца выявлена и ее сатира (выделено автором. – М.Н.)»[80]. Стремление найти баланс между героикой и сатирой чрезвычайно воодушевляло Кузнецова при работе над созданием современного сценария «Москва горит».
Беседа с Петровым помогла Евгению Михайловичу убедиться в правильности выбранной позиции. Режиссер, полный еще проблемами, которые предстояло решать при сценическом воплощении текста Маяковского, загорелся рассказом гостя и договорил-додумал немало из того, что не давалось Кузнецову в руки. Но главным результатом этой встречи стала убежденность, что решать на манеже «Москву горит» следует как пантомиму-феерию[81].
Это предполагало зрелищный и эмоциональный размах, избыточность, энергетику, то, что в наше время принято именовать интерактивностью.
Героические сцены следовало максимально развернуть не только за счет их массовости, но прежде всего всячески выстраивая драматургию противостояния в достижении любой поставленной цели. Каждое событие подавалось и разрешалось как знаковое.
Подчеркнуть героику действия следовало и за счет вкрапления в него контрастных сатирических акцентов и целых сцен. И они должны были всячески укрупняться, решаться не просто как клоунские, а выстраиваться в приемах политической буффонады и образной гиперболы.
Реализуя такой постановочный ход, подчеркивая контраст отношений к одним и тем же событиям, Кузнецов не только поменял картины местами, но и перемонтировал их содержание. Следовало предпринять все возможное для поддержания и развития высокой энергетики темпо-ритма. Это стало одной из причин укрупнения картин пантомимы и перемонтажа предложенных текстом поэта эпизодов.
Была, например, укрупнена и перемонтирована картина «300.000 бросили работу». В новом варианте она складывалась из тех эпизодов, которые именовались «Фаршированная бомба» (из нее был вынут текст листовок), «Полиция на трапеции» и «Забастовка». Сцены эти в постановке Радлова решались как самостоятельные и законченные, что решительно подчеркивалось показом разделяющих их других, законченных и самостоятельных сцен. В новой композиции они естественно переходили из одной в другую, развиваясь героически, а то и по-цирковому буффонно, разрастаясь от местного протеста до всеобщей забастовки. За счет заимствований из других картин перед «Страстной площадью» была составлена даже новая сцена митинга. Текст листовок, который в сценарии Маяковского рабочие зачитывали вслух, превращался в протестные лозунги собравшихся бастовать рабочих. Следом за этим был введен текст Глашатаев о позиции Плеханова, переданный выступающему на митинге меньшевику. Пение «Варшавянки», объединяющее спорящих, органично завершалось речью Рабочего, призывающего митингующих на баррикады.
Такое же обоснование событий и поступков было вынесено на киноэкраны. Но и там оно решалось не однозначно – принимало то исторически-достоверное (финальные кадры фильма С.М. Эйзенштейна, где броненосец «Потемкин», поднявший красный флаг, проходил мимо не решающейся остановить его Черноморской эскадры), а то метафорическое выражение (взмах руки рабочего останавливал движение и заводских машин, и железнодорожного состава).
Так же разножанрово, и бытово-достоверно (вывоз заводчиков с производства на тачках), и в приемах образной метафоры (появление рабочих с рукавами-лозунгами, призывающими к забастовке на все увеличивающихся ногах-ходулях) разворачивался сюжет на манеже.
Другая картина, хотя и озаглавленная «Подпольная типография», в контрастном эмоциональном переплетении объединила упорную пропагандистскую работу революционеров, разглагольствования конституционных демократов и оголтелый рев черносотенцев. На это противопоставление разных слоев общества работали даже и словесные рулады кадетов, и призывы к погрому сборищ «Союза Михаила архангела», и молчаливая работоспособность подпольных печатников. Поэтому Кузнецов и передвинул «Типографию» в самое начало пантомимы, следом за «Пирамидой классов». И это было чисто идеологическое перемещение. Ведь именно революционная печать помогла эксплуатируемым объединиться, раскачать и уничтожить эту отжившую свое пирамиду.
Правильность выбранной Кузнецовым постановочной концепции подтвердили и в ЦК КПСС. Желая заручиться поддержкой неординарной постановки, начальник Главка переслал сценарий в отдел науки и культуры ЦК. Кузнецова дважды приглашали к его руководителям. П.И. Рюмин и Б.М. Ярустовский в первый раз, после общей беседы, просили сохранить стройность мысли и политическую остроту Маяковского, освободить пантомиму от дурновкусных вещей тогдашнего цирка (вроде эпизода «Штаны его величества») и обострить динамичность зрелища. На второй встрече, как можно судить, разговор был долгим и предельно конкретным. Кузнецов записал наиболее существенные, с его точки зрения, замечания:
«1) “мало Маяковского”; наиболее резкий отказ от Маяковского – эпизод “Маевка”; нужен ли данный эпизод? (думается, совершенно справедливые замечания: и ко мне эта сцена залетела случайно, под впечатлением сборника “Революционная поэзия”!..); после “Пирамиды классов” = “статика на статику”, “хор на хор”; известное торможение действия; 2) текст Маяковского – только у отрицательных персонажей; можно и нужно “уравновесить” такое положение, дополнительно введя текст из других его произведений (по примеру “автоцитат” самого Маяковского в сценарии!!!); 3) Центральные задачи – обострить напряжение действия; сквозная линия – тема “пирамиды классов” = “подгнила” = “как ее сокрушают, как она рушится, как ее опрокидывают, как нижний этаж пирамиды подтачивает верхний” – отсюда: прямой ход после пирамиды классов – к подпольной типографии (листовки!..); 4) При этом “1917-й год” – скомкан, “потонут”; 5) Избежать дурной театральности, больше насытить цирком – начиная от мелочей и кончая режиссерской выдумкой = изобретательностью (напр. “кольцевые вагонетки”!!!), так, чтобы держать зрителя (в остром напряжении); 6) Найти финал (без праздника и пловцов; б.м. скульптурная фигура Мухиной)» (все выделено автором. – М.Н.)[82].
Большинство замечаний отвечало собственным ощущениям Кузнецова, он их даже отметил восклицательными знаками. Именно такими приемами он и пытался сблизить сценарий Маяковского с современными театральными тенденциями.
Учитывая вполне разумные пожелания работников ЦК, а также включив импровизации, от которых не удержался Н. Петров, слушая его рассказ о задуманной постановке, Евгений Михайлович закрепил наконец на бумаге постановочный план будущего спектакля, или, как он сам его озаглавил, краткую режиссерскую экспозицию.
Он сохранил очередность отобранных картин, убрав лишь ту, которую написал сам. Прописал активное участие в каждой революционной сцене Рабочего (теперь ставшего узнаваемым представителем партии; его, как Ведущего персонажа, следует писать с заглавной буквы), убрал четырех Глашатаев Маяковского, распределив их реплики между Музыкальным клоуном, Рыжим клоуном и Рабочим. Перенеся его в другую картину, добивался, что разрозненный текст получал иной смысл и значение. Исключил, как и в своем первоначальном варианте, обе сцены с Керенским, зато вернул парад памятников царям (которым не воспользовался Радлов). Нашел еще один прием увеличения текста революционеров. В действие были включены популярные песни, прямо отвечающие смысловому повороту картин, мобилизующих его участников на конкретные поступки (дважды, как лейтмотив протеста, «Смело, товарищи, в ногу», «На улицу, товарищи», «Варшавянка»), и многие сатирические («Всероссийский алкоголик» и целиком включенная «Нагаечка», из которой Маяковский ввел в свой сценарий только второй куплет). Целиком, как монолог Рабочего, было включено популярное стихотворение Б.М. Тарасова «Смолкли залпы запоздалые» (его первой строкой Маяковский назвал одну из картин).
В этом варианте отсутствовал еще один эпизод, дополнительно к тому, в котором прыгал через обручи-назначения Керенский. Кузнецов решился отказаться от «Собак на балу», хотя рецензенты постановки 30-х годов дружно его хвалили как истинно цирковой. Трижды прерываемая сцена бала в честь дарования конституции проездом тюремных карет с арестантами, где и арестантов, и лошадей, и кучеров, и городовых сопровождения изображали одетые в соответствующие одежды собаки, казалась к середине 50-х годов совершенно наивной аллегорией. Даже при первой постановке рассматривался вариант, чтобы городовых изображали не собачки, а артисты в собачьих масках.
Весь заново переосмысленный постановочный материал был распределен по следующим эпизодам:
1. Пирамида классов.
2. Подпольная типография.
3. 300.000 бросили работу.
4. Куцая конституция.
5. Страстная площадь (На баррикады!).
6. Штурм фабрики Шмидта.
7. Нет, за оружие браться нужно.
8. Выстрел с «Авроры».
Перед финалом, после штурма Зимнего дворца, под кинокадры еще раз выступающего Ленина[83], Кузнецов предлагал дать выборку документального материала, в том числе и всем известную цитату «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны», как переход к карте ГОЭЛРО.
Это позволяло органично ввести в действие финальную картину:
«На сцене огромная светящаяся карта ГОЭЛРО со всеми станциями, существующими на сегодняшний день.
Рабочий читает текст об атомных станциях и о предложении Советского Союза помочь всем в строительстве таковых в мирных целях.
Выход иностранных делегаций.
Пуск воды.
Апофеоз (апофеоз, как и весь финальный эпизод, требует детальной разработки вместе с поэтом-драматургом и художником)».
Придуман был и пролог пантомимы, связывающий ее показ с событиями сегодняшнего дня:
«На манеж выбегает ведущий клоун (прототипом его является образ клоуна-публициста, клоуна-трибуна, созданный Виталием Лазаренко), действовавший в прологе представления и участвовавший в репризах первого отделения.
Ведущий клоун сообщает зрителям, что сегодня в цирке ожидаются гости, прибывшие на празднование 38-й годовщины Октября и 50-летия первой русской революции 1905 года, – это передовики сельского хозяйства, герои целинных и залежных земель.
На манеж для встречи гостей выходит группа артистов цирка.
Слышна песня. На манеже появляется группа гостей во главе с Рабочим (это действующее лицо проходит через всю пантомиму; при его посредстве режиссура стремится подчеркнуть преемственность революционных традиций в рабочем классе).
Ответное слово Рабочего: он водил своих товарищей на Красную Пресню, на баррикадах которой в 1905 году героически сражался его отец»[84].
Этот же исполнитель должен был появиться уже в самой пантомиме в роли своего отца.
В экспозиции Кузнецов отметил также, что дополнительный стихотворный текст, кроме пролога и заключительной картины, необходим и для вступления в эпизод «Выстрел с “Авроры”».
К середине марта законченный Е. Кузнецовым очередной вариант сценария (как всегда, казалось, что последний) был готов, в очередной раз зачитан и утвержден в управлении, после чего отправлен в Министерство культуры, откуда поступил в Репертуарно-художественную инспекцию. Положительная оценка после предусмотрительных консультаций во всех возможных идеологических и художественных инстанциях представлялась настолько очевидной, что можно было заняться дальнейшими проблемами его осуществления. Ведь краткая режиссерская экспозиция Е. Кузнецова, несмотря на ее тщательно продуманное построение, требовала поэтической и режиссерской доработки.
Разумеется, крупные постановки в каждом цирке страны всегда ожидались как нужные и важные. Но особенным вниманием прессы (и руководства) пользовались осуществляемые на столичном манеже. К постановке пантомимы по сценарию такого знакового поэта, как Маяковский, хотелось привлечь режиссера, каждая работа которого обещала дерзкое, яркое и востребованное у зрителей зрелище. Первым из них был Н.П. Охлопков, выпустивший на сцену за последние сезоны один за другим такие спектакли, как «Гроза» и «Гамлет», вызвавшие лавину противоречащих друг другу рецензий. Но он от приглашения цирка отказался. Чтобы избежать всегда изматывающего процесса уговаривания, он заявил сразу, что присланный сценарий ему не нравится. Отпали и другие возможные кандидатуры театральных режиссеров. Из цирковых рассчитывать можно было только на одного – А.Г. Арнольда. Тем более, что он являлся главным режиссером Московского цирка, а пантомима планировалась именно для столичного манежа. Не имея путей к отступлению, Арнольд вынужденно согласился, но потребовал себе помощника. Выбор пал на одного из режиссеров, работающих в штате Главка, М.С. Местечкина, тем более, что в последние сезоны он уже неоднократно ассистировал Арнольду Григорьевичу при выпуске московских программ.
Что касается предполагаемого автора, то еще на обсуждении в Главке поэтов, которых желательно было бы привлечь к доработке сценария, Кузнецов назвал Н.Н. Асеева или С.И. Кирсанова.
В тот же день, когда подготовленный им вариант сценария был переправлен в Министерство культуры, Кузнецов вручил его экземпляр и Арнольду (Н.С. Байкалов, директор Московского цирка, жестко державший в своих руках не только организационную, но и творческую работу, был в командировке).
Арнольд сразу же, не заглядывая в сценарий, заявил, что эту постановку сможет спасти лишь художник с большим воображением и искать его надо на стороне, среди цирковых таких нет и не будет. Скорее всего, подошел бы Б.Г. Кноблок. Он оформлял спектакли и охлопковского «Реалистического театра», и балетной труппы Викторины Кригер, и даже такой выдумщик, как Григорий Александров, выбрал именно его в художники фильма «Светлый путь». Что касается кандидатуры автора, то Арнольд, зная обоих, названных Кузнецовым поэтов еще со времен своей дружбы с Маяковским, отдал бы предпочтение Кирсанову. Припомнил давнюю эпиграмму: «У Кирсанова три качества: // Трюкачество, трюкачество и трюкачество», сообщил, что тот сам себя аттестует «циркачем стиха» (это Кузнецов знал и сам, перечитав написанное Кирсановым) и вообще человек веселый и компанейский. Но с выбором поэта и художника, да и с режиссерской доработкой спешить не следует. И разрешения Главлита нет, и приказ о постановке не подписан, да и Байкалов еще не дал добро. А без его согласия ни одной постановки в Московском цирке не было и не будет.
Арнольд как в воду глядел. Хотя разрешение на постановку «Москва горит» (с окончательным разрешением показа после просмотра генеральной репетиции) дано было в конце марта 1955-го, никакого движения в работе над спектаклем не произошло. Пришлось срочно заниматься новым заданием ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.
Предписано было послать цирковую программу в Варшаву для участия в V Всемирном фестивале молодежи и студентов. Все, и Е.М. Кузнецов как заместитель управляющего по художественной части, и Н.С. Байкалов как директор цирка, где программу предстояло формировать, и А.Г. Арнольд, назначенный постановщиком, занялись этим находящимся под высоким контролем международным заказом.
Только 13 июля, когда организационные проблемы, связанные с цирковой делегацией в Варшаву были в принципе согласованы и решены, Ф.Г. Бардиан собрал в Главке совещание по обсуждению нового варианта режиссерской экспозиции пантомимы. Кузнецов – и как ответственный за художественную жизнь цирка вообще, и как инициатор этой конкретной работы – выступил с довольно резкой критикой недостаточного участия режиссуры в действенной разработке экспозиции. Добавил несколько политических соображений о месте исторической пантомимы в современной программе и Бардиан. Арнольд, а за ним и Местечкин заявили, что принимают эти критические замечания и обязуются уже к 25 июня (на 31-е было запланировано открытие фестиваля в Варшаве) представить новый вариант экспозиции. После этого Бардиан тут же подписал (с многочисленными контрольными сроками) приказ о постановке «Москва горит» на столичном манеже.
Все препятствия, казалось, были преодолены. Хотя произведение Маяковского и было связано с конкретным моментом истории, в ее повторную постановку вкладывали куда больший смысл. Предполагалось, что именно работа над пантомимами станет стимулом для воспитания актерских способностей артистов цирка.
Совершенно неожиданно выяснилось, что советское цирковое мастерство не только имеет все возможности вырасти в большое искусство, но именно так самым решительным образом и оценивается новыми для него зарубежными зрителями. И прежде всего в жанре, который у нас традиционно считался самым отстающим и несовременным. Ведь именно в эти годы на манеже появился артист, на десятилетия определивший развитие комического начала в отечественном, а вскоре и мировом цирке.
«Нам говорили, что для всех цирков, выступавших на фестивале, явилась совершенной новостью работа коверного Олега Попова, – сообщил А.М. Волошин из Варшавы, где проходил V Всемирный фестиваль молодежи. – Его целеустремленный образ, образ простого, веселого молодого человека, проходящий через все представление, нашел единодушное признание у коллег по профессии, у прессы, у широкого зрителя»[85].
Олег Попов был выпущен из училища как эксцентрик на свободной проволоке. Но так уж сложилась судьба артиста, что на первых гастролях в Ленинграде Г. Венецианов предложил Попову кроме выступления со своим номером ассистировать Борису Вяткину в его клоунских интермедиях. Уже через год, подготовив самостоятельные репризы в партере, Олег Попов один заполнял все паузы как коверный клоун в самых представительных цирковых программах страны. Обаятельное круглое лицо безо всякого грима, огромные голубые глаза, собственные русые волосы, а главное, доброжелательное обращение со всем, что его окружало на манеже, от куклы, становящейся его партнершей в акробатической репризе, до жонглерской сценки, когда, отчаявшись уложить овощи в кастрюлю, он начинал гонять ее по манежу, как футбольный мяч, повернули клоунаду неожиданной стороной. Эту индивидуальную особенность Олега Попова первыми разглядели и оценили зарубежные зрители. Большая кепка Попова в черно-белую клетку (придуманная художником Анелью Судакевич) на десятилетия станет для всего мира своеобразной эмблемой советского, отличного ото всех цирка.
То новое, что удивило поклонников циркового искусства за рубежом, тем более убеждало в необходимости отстаивать и развивать достижения государственного цирка во всех жанрах и видах искусства манежа. Утвердить это отличие и в создании водяной пантомимы, самого крупного и выразительного жанра циркового искусства, давно уже позабытого цирками всех стран мира, представлялось тем более важным и своевременным.
Кузнецов, пользуясь своей должностью, постоянно вызывал работников Московского цирка с отчетом о положении с постановкой пантомимы. Слушал доклады о проделанной работе. Но никаких документов не получал. Даже Арнольд с сопровождающим его Местечкиным, являясь в кабинет заместителя управляющего (Главк все еще продолжал располагаться на 2-м этаже Московского цирка, в бывшей квартире Саламонского), не зачитывали режиссерские разработки, а фантазировали, как следовало бы развернуть ту или иную картину.
Арнольд Григорьевич в одно из таких посещений рассказал, как следовало бы укрупнить и перемонтировать картину «300.000 бросили работу». В новом варианте она могла бы сложиться из тех эпизодов, которые именовались «Фаршированная бомба» (из нее был вынут текст листовок), «Полиция на трапеции» и «Забастовка». Сцены эти в постановке Радлова решались как самостоятельные и законченные, что безусловно подчеркивалось показом разделяющих их других, законченных и самостоятельных сцен. В новой композиции эти эпизоды могли естественно переходить из одного в другой, героически, а то и по-цирковому буффонно, разрастаясь от местного протеста до всеобщей забастовки.
За счет заимствований из других картин перед «Страстной площадью» вполне возможно составить даже новую сцену митинга. Для этого следовало тексты листовок, которые в сценарии Маяковского рабочие зачитывали вслух (в своем варианте Кузнецов отказался от их озвучивания), превратить в протестные лозунги собравшихся бастовать рабочих. Следом за этим соглашатель-меньшевик мог рассказать о позиции Плеханова (у Маяковского эти стихи произносили Глашатаи), после чего объединяющее спорящих пение «Варшавянки» органично завершалось речью Рабочего, призывающего митингующих на баррикады.
При другом посещении Арнольд заявил, что ему жаль расставаться с эпизодом, когда царь, из-за прихватившего с перепуга живота, вынужден менять штаны. Ведь этой сцене можно дать начало, которое наверняка порадовало бы Маяковского: царь по дороге в нужник отрывает для немедленных нужд кусок своего манифеста о свободах. Кроме того, после захвата восставшими Зимнего дворца следовало бы обязательно, раз бегство Керенского выброшено, вставить сцену ареста Временного правительства.
Предложения были и к месту, и убедительны. Но Кузнецову приходилось самому фиксировать эти импровизации.
Байкалов в этих встречах не участвовал, но именно он предложил в беседе со своими режиссерами начинать юбилейную программу пантомимой, а 2-е отделение строить над заполненным водой манежем. Тут же было решено, что это избавит от невольного неряшливого строительства бассейна во время показа пантомимы, когда устанавливались повышающие высоту барьера деревянные козлы и манеж застилался грязно-зеленым прорезиненным брезентом. А так как партерные номера в этой программе использовать не предполагалось, можно было выстроить углубленную бетонную чашу и заранее вмонтировать по ее дну и окружности сопла будущих фонтанов.