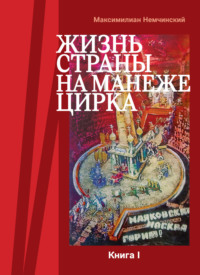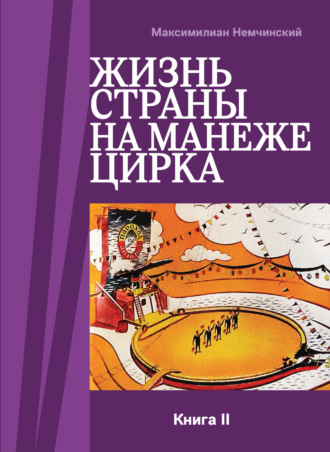
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
При всей справедливости этих рассуждений они относятся, по сути дела, не к развитию циркового мастерства всей страны, а к программам на столичных манежах. В Ленинграде по-прежнему стремился разнообразить свои постановки Г.С. Венецианов. А.Г. Арнольд, исполняющий обязанности главного режиссера Московского цирка (Б.А. Шахет умер), занимался этим же в столице. В напарники он все чаще привлекал одного из педагогов Студии разговорного жанра цирка М.С. Местечкина. Значительно увеличилось число режиссеров, приглашенных к работе на манеже. Правда, большинство из них занималось постановками парадов и прологов в цирках, разбросанных по всей стране.
Что касается номеров, то их усовершенствованием и даже созданием по-прежнему предпочитали, да и вынуждены были заниматься сами артисты цирка. Продолжающие гастролировать обогащали собственные выступления или создавали, иногда даже меняя жанр, новые, помогали коллегам. Оставившие манеж, устраивались педагогами в училище или в мастерские Центральной студии.
Все чаще к созданию номеров стали привлекаться балетмейстеры. Кроме Г.А. Шаховской, ставшей чуть ли не постоянной участницей постановочных групп Московского цирка[65], в работе над номерами участвовали И.В. Курилов, П.Л. Гродницкий, Г.В. Перкун. Все они, а Галина Александровна в первую очередь, обладали даром придавать танцевальным фрагментам игровое содержание. С их помощью трюки становились частью активного взаимодействия артистов, выстраивающих более или менее подробный сюжет, обостряющий восприятие номера. Благодаря этому раз за разом росла гармония соединения выступлений на манеже и звучания оркестра. Музыка, как правило, становилась не сопровождением, а мелодичным выражением трюковой работы. Популярные композиторы все чаще писали специальные композиции и для отдельных номеров, и для целых представлений.
Провозглашенная концепция мирного существования мало-помалу сказалась и на внутренней жизни страны. И до цирка докатилось то, что, по повести И.Г. Эренбурга, начали именовать «оттепелью». Ведь потеплели даже международные отношения. В страну стали приезжать иностранные гастролеры (своих за границу еще не выпускали). Следом за «Comédie Française» стали появляться и зарубежные цирковые программы. Поначалу приглашались представители стран социалистического лагеря. Артисты из демократической Венгрии, потом и Чехословакии, позже – демократической Германии были интересны не только новыми трюками или аппаратурой, но и взаимоотношениями, которые они, только появившись из-за занавеса, устанавливали со зрителями и развивали между собой. Хотя иностранцы на манежах наших стационаров выглядели профессионально и убедительно, чувствовалось, что им привычнее более камерные залы варьете и мюзик-холлов.
Часто отечественные зрители и артисты восторгались в номерах гастролеров совершенно противоположным. Профессионалов, например, поразил у чешки Марии Рихтеровой, выступавшей на швунг-трапе, финальный трюк. Артистка, балансирующая на спине, неожиданно взмывала над грифом и, провернувшись в пируэте, падая вниз, цеплялась подносками за веревки трапеции. Зрители, конечно, аплодировали этому трюку, но настоящей овацией отмечали совсем другое. Гимнастка, спустившись по канату после своей поистине воздушной работы, оказывалась на лежащем посреди манежа листе фанеры. И лихо отбивала на нем чечетку.
Разумеется, отечественные артисты дружно и качественно перенимали, включая их в свой репертуар, все увиденные трюки. Что же касается попыток овладеть новой манерой подачи номеров, то никто из мастеров манежа, и так преследуемых вечными подозрениями в формализме и низкопоклонстве перед Западом, даже не поспешил ею воспользоваться. Все уже привыкли к тому, что цирк должен прежде всего воспитывать своего зрителя. И демонстрировали это иногда с чрезмерным усердием.
Рекордсменов-прыгунов под руководством Ивана Федосова, к примеру, в той же программе открытия Московского цирка после исполнения сложнейших акробатических прыжков заставили разыграть клоунскую сценку. Невесть откуда появившийся канцелярист требовал прекратить прыжки до получения разрешающей их бумаги. Федосов писал заявление и отправлялся за визой. Под все более убыстряющуюся музыку его гоняли от одного канцелярского стола к другому. Не добившись никакого результата, акробат разрывал свое заявление с просьбой совершить очередное сальто и, сдвинув столы, прыгал через все три, прорвав на лету вывеску «Главсальто»[66]. После этого Федосов обращался к зрителям:
Друзья! Смелее сметать с дороги будемВсе то, что портит жизнь советским людям!Не делом, так словом цирковое начальство старалось убедить всех (а свое начальство, отвечающее за культуру и идеологию, в первую очередь) в актуальности и политической благонадежности всего, что демонстрирует манеж.
Впрочем, иностранных коллег мучили те же проблемы, что и отечественных.
«Несколько лет назад у нас слишком примитивно строилась литературная часть программы, – признавалась венгерская журналистка, сопровождавшая гастролирующих в Москве земляков. – Многие считали своим долгом возложить на каждую клоунскую шутку непомерную политическую нагрузку, другие впадали в противоположную крайность: упорно держались за устаревшие приемы. Но если будут устранены штампы в игре и масках, у клоуна появится больше возможностей применять свои индивидуальные приемы. Политическая актуальность вовсе не исчезнет, если она естественно и органически войдет в клоунские шутки»[67].
Наши артисты, а тем более руководство, старались не излагать в прессе так откровенно болевые творческие вопросы. Но выходы из этого положения находили те же самые (других и не было). Венгры гордились, что, обратившись с призывом ко всем писателям страны участвовать в конкурсе на лучшую клоунаду, получили хороший результат. Около тридцати писателей, изучив технику и традиции клоунады, добились в этом жанре известных успехов. Разумеется, и Главное управление цирков осуществляло подобную деятельность, но в несопоставимо больших масштабах. За 1953/54-й и 1 квартал 1955 года от профессиональных авторов было принято 1336 новых литературных произведений. Поступило 656 реприз для клоунов-коверных, 189 куплетов и интермедий, 149 клоунад, 45 произведений, посвященных сельскохозяйственным темам, а также ряд реприз и клоунад на темы о борьбе с алкоголизмом и суевериями. Было создано и 16 произведений крупной формы (сценариев и текстов для аттракционов и коллективов, сценариев пантомим)[68].
В отчетных докладах и на страницах прессы можно было обойтись идеологически выверенными обещаниями. Но для того, чтобы привлечь в цирк зрителей, необходимы были номера не только с хорошим литературным текстом, но и с невиданной аппаратурой, с захватывающими трюками, поражающие воображение представления. А кроме того (может быть, и прежде всего), требовались стационары, куда стремился бы зритель, чтобы все это увидеть. Те здания, которые широко и в рекордные сроки возводили по стране в довоенные годы (в основном деревянные стены с земляной засыпкой), если не были разрушены, пришли в полную негодность. Но, несмотря на небольшую сеть цирков, артисты ухитрялись обслуживать свыше 20 миллионов зрителей ежегодно.
Новый начальник Главка, четвертый за последние три года, Ф.Г. Бардиан сумел добиться в Госплане на восстановление цирков небывалой ссуды. Решая проблемы организационные и хозяйственные, он стремился профессионально влиять и на творческий процесс. Для этого требовался помощник, знанию цирка и художественному чутью которого можно было бы довериться.
Бардиан сумел уговорить Е.М. Кузнецова занять пост своего заместителя по художественной части[69].
Евгений Михайлович, несмотря на классическое образование, предостерегающее возвращаться в одни и те же воды дважды, не устоял и переехал в Москву. Как и многих других, занимающихся художественной жизнью цирка, его замыслы активизации постановочной культуры искусства манежа чуть не погребла управленческая текучка (в цирке к проблемам творчества относятся и корма животным, и ткани для артистических костюмов). Тем не менее Кузнецов сумел выкроить время и для главного, для репертуара.
В сезон, когда Кузнецов возглавил художественную работу Главного управления цирков, стране предстояло отметить немало знаменательных дат. Готовились отпраздновать 300-летие воссоединения Украины и России, 37-ю годовщину Октября, а, кроме того, приближался 50-летний юбилей первой русской революции. Исполнялось и 35 лет учреждения государственных цирков. Подразумевалось, что все эти даты предстоит отразить в цирковых программах. Не должна была быть забыта и еще одна важнейшая тема начала 1950-х. Вся страна была нацелена на освоение целины и залежных земель. А ведь цирку следовало заниматься не просто развлечением зрителей, но и воспитанием своего молодежного зрителя в свете исторических решений ЦК партии и решений XIX съезда КПСС (такой пассаж был обязательным в любых выступлениях и статьях) убежденными строителями коммунистического общества.
К этому времени благодаря обращению Главка в секретариат Союза советских писателей на объединенном совещании секций драматургии и сатиры и юмора, посвященном работе писателей по созданию репертуара для цирка, эстрады, радио и художественной самодеятельности, а также на расширенном заседании секретариата Союза писателей, собранном для обсуждения работы секции сатиры и юмора, выступал представитель Управления цирков. Судя по всему, убедительно.
Подводя итоги последнего совещания, А.А. Сурков, заместитель председателя правления Союза писателей, подчеркнул, выражая мнение всего секретариата, важность и ответственность работы писателей по созданию репертуара для мастеров манежа.
Благодаря этому Управлению цирков удалось пополнить свой авторский актив писателями – членами Союза. Впрочем, хотя для цирка стали писать такие известные, к тому же отмеченные званием лауреатов Сталинской премии (что представлялось крайне важным), поэты и драматурги, как Константин Симонов, Сергей Михалков, Анатолий Сафронов, от создания сценариев цирковых пантомим они уклонялись.
В поисках автора, одна фамилия которого служила бы гарантией качества будущего циркового спектакля, Кузнецов вспомнил В.В. Маяковского, официально уже признанного лучшим и талантливейшим в стране. Ведь «Москва горит», поставленная в Московском цирке, была последним, написанным поэтом произведением. А, кроме того, грядущий юбилей первой русской революции совпадал с 25-летием со дня кончины поэта. И уже одно соединение этих двух дат должно было свидетельствовать о том, что советский цирк заботится об идейной содержательности своих спектаклей. К тому же литературный материал был проверен постановками на манеже.
С присущими ему основательностью и методичностью, Евгений Михайлович обратился к изучению поставленного С.Э. Радловым спектакля. В поисках материалов он едет в Ленинград, в Музей цирка. Но коллекция, пережившая годы блокады в неотапливаемом здании, значительно пострадала позже, при реконструкции цирка, от прорыва водопроводных труб. Ничего, кроме разрозненных фотографий московской и ленинградской постановок разыскать не удалось. В помощь остались только фрагменты воспоминаний, записанных со слов покойного Д.С. Альперова, участвовавшего в пантомиме, газетные рецензии, а главное, текст Маяковского.
Обратившись к нему, Кузнецов сразу же зафиксировал три факта. Во-первых, «Москва горит» завершалась аллегорической сценой ликвидации кулачества как завершающим итогом революционных боев, начатых в 1905 году и продолженных в 1917-м. Во-вторых, изложение сюжета в публикуемом тексте В. Маяковского значительно отличалось от осуществленной на манеже постановки. А в-третьих, эмоционально хлесткие названия картин, напечатанные в цирковых программках и повторяемые книжными публикациями, не исчерпывали эпизодов пантомимы (как в сценическом варианте, так и в печатном тексте) и не совпадали с ними. Вывод напрашивался сам собой. Необходимо было восстановить логическую последовательность излагаемых событий. Требовалось создать современную редакцию истории, рассказанной 25 лет назад. И адресовать ее предстояло совершенно другому поколению зрителей, которым следовало растолковать целый ряд событий и фамилий, не требовавших ранее никаких разъяснений. И Евгений Михайлович поступил так, как делал уже не раз, увлекшись идеей добиться постановки на манеже той или иной пантомимы. Он попытался набросать каркас режиссерского сценария.
Но для этого следовало подытожить, что конкретно не приняли зрители (от лица которых выступали рецензенты) в первой постановке. Кузнецов обратился к прессе, сделал выписки.
Наиболее суровы были оценки постановки пантомимы, перенесенной на ленинградский манеж[70].
Б.Л. Бродянский, киносценарист и критик:
«Отсутствие композиционной четкости мешает зрителю усвоить основные политические выводы циркового спектакля (здесь и ниже выделено автором. – М.Н.).
Плохо и невнимательно проработана сцена постройки баррикады у памятника Пушкину. …
Кривая интереса и зрительского внимания падает к финалу.
Особенно это сказывается в апофеозе, растянутом и наполненном водой в прямом и переносном смысле слова до отказа. Кстати, основной трюк – водяной каскад в данной постановке использован механически, он пристегнут в качестве наивного символа “стихии революции”.
Наконец, основной недостаток – отношение постановщика к словесной ткани пантомимы.
Получив долгожданное слово, цирк не сумел донести его до зрителей»[71].
А.А. Дорохов, журналист, много писавший о цирке:
«Средства цирка применены верно, умело и предельно выразительно, но:
Шутки любит цирк, но между шуток веселыхВспомни – как мёрли отцы в запоротых городах и селах.Вторая половина задания остается невыполненной. Замыслы автора встречаются с неумением достойно их воплотить. …
Тема затопленной в крови революции, волнующая даже в самых сухих официальных отчетах и сводках, здесь оставляет зрителя холодным, не зажигает гневом, не вздымает пафосом революционных боев. Авторская канва не наталкивает постановщика на хотя бы минимальное использование богатейшего арсенала выразительных средств цирка.
Режиссер идет привычным путем театральных инсценировок, поверхностных и неубедительных на арене. Грохот и дым выстрелов, пиротехнический пожар, суетливая толпа статистов теряются в глубине амфитеатра. Цирк, перефразируя слова Толстого о Леониде Андрееве, пугает, а зрителю не страшно.
Так обстоит дело с первой частью пантомимы, посвященной собственно пятому году, о которой до сих пор шла речь. С началом второй части, после неудавшегося и проходящего незамеченным публикой трюка с падением царского орла, идет резкое снижение в развертывании пантомимы, начисто смазывающее все положительные стороны ее первой части.
Уже самые кульбиты через обруч Керенского демонстрируют явное непонимание цирковой стихии и ложное использование трюка вследствие противоречащей его сущности смысловой нагрузки. Затем идет непонятная и неумная сцена в спальне Александры Федоровны. А там начинается невразумительная и нудная белиберда, связанная с необходимостью во что бы то ни стало использовать водяной каскад в “один миллион литров”.
Привести в действие всю водяную машинерию – дело довольно сложное и требующее времени. Вместо того, чтобы честно объявить антракт, постановщик усиленно пытается связать несвязуемое и старательно подводит под “арену под водой” идеологическое обоснование. Из разных кинофильмов нарезаны кусочки, склеены вместе, снабжены лозунгами и надписями. Они слепо мерцают на экране и убеждают единственно в безграмотности и бездарности их монтажеров. А дальше – бесконечно льется вода, уныло барахтаются утопающие кулаки, добросовестно и скучно скользят в свете прожекторов пловцы и развертывается заимствованный из прежних постановок невыразительный и казенный апофеоз. Зритель жалеет, что спектакль не кончился на середине»[72].
Московскую постановку оценивали доброжелательнее. Но и здесь не обошлись без замечаний.
И.А. Уразов, журналист, заведующий редакцией журнала «Цирк и эстрада»: «Основная трудность при создании новых, сегодняшних пантомим заключается в том, чтобы они были явлением цирка.
С этой стороны в “Москва горит” не все благополучно. Хотя бы сцена с Наполеоном и Керенским, задуманная по-цирковому, получилась как в пародии на провинциальную драму. И пока она шла на сцене, зритель пытливо старался рассмотреть, как на манеже готовились к пуску воды…
К сожалению, в “Москва горит” вода вне сюжета. Это пантомима “сухопутная“, а вода – по традиции – для апофеоза, как некая дань стоящим без дела бакам и оборудованию.
А макеты трактира, церкви и т. д., сметаемые потоками воды, – единственная попытка смыслового оправдания дрессировки наводнения, – во-первых, самое зрелище водопадов отвлекло внимание от этого режиссерски плохо сделанного момента, а, во-вторых, эта символика вряд ли стоила столько-то литров воды и приготовлений»[73].
А.А. Гвоздев, литературовед и театральный критик, увлеченный анализом структурного построения литературных и сценических произведений: «…следует указать, что слово Маяковского недостаточно вынесено к зрителю, доведено к нему вплотную…
Цирковая инженерия, индустриальная техника должна была бы подкрепить четкую структуру и плакатность образов Маяковского. А так пропал и задуманный поэтом финал с вращающейся турбиной, вспыхивающими лучами и электрифицированной картой пятилетки. Это следует принять как настойчивое напоминание о том, что цирку необходимо индустриализироваться и вооружаться современным техническим оборудованием. Тогда не придется больше затягивать на долгое время сооружение бассейна и заполнять невольно образующийся антракт надоедающими кинокартинами…
…Все-таки смеха мало. В тексте Маяковского его гораздо больше. Его призыв: “Хохочи, товарищ цирк!” – остался невыполненным до конца. Нет эпизода, где рабочий “вытаскивает под уздцы целый табун памятников царей” (от Петра до Николая II). Не развернулся в комический фарс и барахтающийся в водопаде кулак. Недостаточно бурно и смешно идет сцена со спасающимся от полицейских рабочим, хотя разверстка преследования на веревочной лестнице намечена интересно»[74].
Разыскал Кузнецов и свою рецензию на ленинградский повтор постановки: «Надо заметить, что Маяковский явно недостаточно знал цирк (иначе при его подходе он мог бы неизмеримо богаче построить действие и не впадал бы в примитив) и к тому же, как известно, скончался как раз в разгар репетиций своей пантомимы в Московском цирке, не успев даже ее дописать. Так что финал дописывал Асеев. Сценарий совершенно очевидно не сделан до конца: это канва, нуждающаяся в дальнейшей доработке. И прежде всего в доработке политической. Смысл событий 1905 года отражен бледно. К сожалению, в силу разных причин эта доработка не была произведена режиссурой (режиссер Сергей Радлов, по экспозиции которого ставилась пантомима, отошел от постановки, не докончив ее) – и так на плакатах московского, а теперь Ленинградского цирка утвердился этот явно сырой спектакль.
Спектакль сырой и противоречивый, новаторский по замыслу и малоудачный по выполнению, режиссерски плохо сработанный (особенно финал), где смысл и значение событий 1905 года почти не выявлены, где наряду с блестками сарказма и сатиры на царскую Россию очень много “воды”, а сама вода мало оправдана и мало обыграна, где, с точки зрения исполнительской, многое расхлябано, и наряду со всем этим встречаются отличные эпизоды и мелькают подлинные цирковые образы»[75].
Все эти претензии, хотя и адресуемые постановке, но в определенных моментах относящиеся и к сценарию, следовало свести воедино и учесть при создании новой версии.
Маяковский, как известно, предложил игровой материал, составленный из самостоятельных разножанровых картин. И каждая из них, по договоренности с Радловым, имела своих действующих лиц. Хотя в цирковой программке и было напечатано (а потом вошло и в книжные публикации), что «Москва горит» состоит из 21 картины, в поставленном спектакле это было не так. Радлов и Ходасевич по чисто производственным причинам, опасаясь потерять темпо-ритм зрелища из-за частой смены декораций, стремились укрупнить картины. Поэтому в спектакле их стало, считая апофеоз, пятнадцать[76].
Уже перебеляя рукопись, Маяковский поменял обозначение жанра будущего спектакля. Хотя он и станет именоваться «героическая меломима» – так «Москва горит» будет афишироваться при московской постановке – в этом неожиданном неологизме есть невольное, а может быть, и сознательное преувеличение. Придуманное поэтом обозначение жанра должно было подчеркнуть своеобразие предлагаемого зрителям зрелища, в котором наряду с пантомимическими сценами есть также основанные на звучании стихотворного или песенного слова. «Героическая», точно так же, как вынесенная в название «меломима», подчеркивали эмоциональную энергетику всего происходящего на манеже. Впрочем, самый поверхностный анализ позволял убедиться, что картин, целиком основанных на звучащем слове, не больше, чем поддержанных только оркестром.
Перечитав сценарий, Кузнецов понял, что очередность эпизодов явно нарушает исторический ход событий, который продолжали изучать на марксистско-ленинских семинарах во всех республиках Советского Союза. Это было легко исправить, перекомпоновав эпизоды. Подобную работу уже проделал С.Э. Радлов при постановке пантомимы, хотя Маяковский и писал свою пантомиму по разработанному ими совместно сценарному плану. Кузнецов постарался прежде всего выстроить имеющийся в пантомиме материал в логической последовательности развития революционной ситуации в стране. Он фактически продолжил работу самого Маяковского, который характеризовал свой сценарий как «сознательный литературно-исторический монтаж»[77].
Начать следовало с объяснения причин революции. И «Пирамида классов» перекочевала в начало зрелища. Все остальные картины, таким образом, становились отражением этапов борьбы пролетариата с притеснениями царизма. Угнетаемым следовало разъяснить их права (листовки «Подпольной типографии»), сплотить для сопротивления («300.000 бросили работу»), призвать заявить свои права («На баррикады!», «Штурм фабрики Шмидта»), не дать отчаяться от поражения («Смолкли залпы запоздалые», «Нет! За оружие браться нужно»), вдохновить на победу («Безглавый орел»). Так выстраивал Кузнецов героическую линию пантомимы.
Однако Евгений Михайлович не мог не заметить того, на что обязательно обратили бы внимание многие его современники. Всем еще был памятен случай с «Молодой гвардией» С.А. Герасимова. Героический и патриотический фильм о молодогвардейцах, пользующийся огромной популярностью во всей стране, неожиданно был снят с показа. С.А. Герасимову и А.А. Фадееву, по роману которого картина создавалась, пришлось дописывать и доснимать сцены, доказывающие, что молодые комсомольцы боролись с гитлеровскими оккупантами под руководством работавшего в подполье обкома партии Краснодона. И хотя связана эта доработка была, по слухам, с личным указанием Сталина, но и сегодняшнее руководство страны с повышенным вниманием следило за идеологическим воспитанием граждан, особенно молодых. А именно на привлечение молодежного зрителя ориентировал свою репертуарную политику тогдашний цирк.
Чтобы исправить ситуацию, Кузнецов вставил в текст Глашатаев хрестоматийные строчки о Ленине и партии. Но для пантомимы, где каждое утверждение должно обрести действенную образную форму, этого было явно недостаточно. Разрозненные картины следовало объединить сквозным персонажем. И он обязательно должен был восприниматься как партийный функционер.
Разумеется, Кузнецов знал, что Маяковский сознательно не выделял кого-либо из восставших против царизма. «Я нарочно показывал белых “героев“ и красную массу», – подчеркнул поэт, отвечая на вопрос, прозвучавший при обсуждении пантомимы[78]. Но новые времена требовали своих решений. Еще раз пересмотрев отобранные сцены, Евгений Михайлович отметил, что только в одной из них звучит откровенный призыв к противоборству властям. Звал бастующих к сопротивлению в начале картины «На баррикады!» безымянный рабочий. Но в постановке С. Радлова эту роль исполнил Н. Красовский, который участвовал перед этой картиной и в сцене распространения листовок («Полиция на трапеции»). Тогда, еще раз перечитав сцены подпольщиков, Кузнецов понял, что этот безымянный рабочий мог бы приехать за листовками в типографию и, если оставить его живым, мог бы возглавлять строительство баррикад и предводительствовать даже штурмом Зимнего.
Убежденный революционер (он был единственный из положительных персонажей, кого Маяковский наделил небольшим поэтическим монологом), этот рабочий мог бы без всяких натяжек появиться во всех героических картинах пантомимы. А чтобы его руководящая роль была заявлена изначально, Кузнецов решился дописать картину, у Маяковского отсутствующую, – «Революционную маевку». Сделал он это в приемах поэта, который, добиваясь достоверности своего поэтического рассказа, включал в действие революционный фольклор тех лет. Придуманный Кузнецовым Рабочий, зовущий на забастовку, запевал популярную революционную песню[79], а его соратники, появляющиеся один за другим, ее подхватывали.