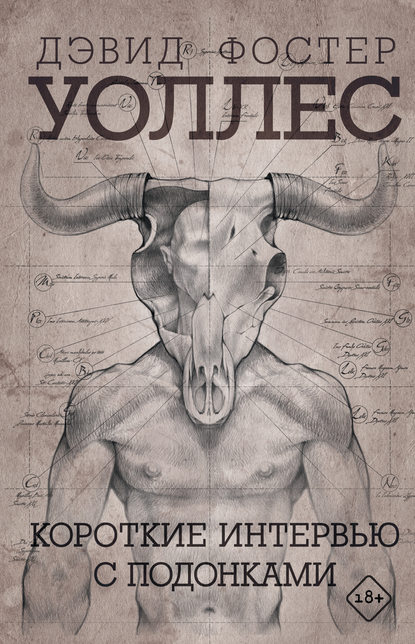Полная версия
Создатель эха
Карин часами читала Марку. Читала вслух, пока родные второго пациента, скрытые шторкой, не разразились недовольными протестами. Голос успокаивал Марка, особенно по ночам, когда он срывался обратно в момент аварии. Каждая новая страница напоминала о забытом, и на лице отражалось замешательство. Марк спокойно слушал повествование, но иногда вздрагивал посреди предложения, словно его цепляло слово – пуговица, подушка, Вайолет, – и поднимался, пытаясь заговорить. Медсестер Карин больше не звала. Они только и умели что накачивать успокоительным.
Карин уже много лет не читала ничего вслух. Предложения рассыпались на фразы, слова считывались не сразу. Но Марк внимал им, словно те были новой формой жизни; таращил глаза, и они походили на полудолларовые монеты. Мать наверняка читала им в детстве. Но Джоан Шлютер в воспоминаниях Карин цитировала только предостережения о конце света, даже тогда, когда начала слабеть телом.
Восемнадцать месяцев назад Джоан, наконец, встретилась с концом. Тогда Карин тоже круглыми сутками сидела у постели, но ситуация была совсем иной. В последние мгновения жизни мать как прорвало, и она решила высказать все, о чем умалчивала годы, прошедшие за воспитанием детей.
– Дорогая, если начну заговариваться, обещай, что прекратишь мои мучения. Болиголов в сливовый сок, – попросила она, смотря дочери в глаза и сжимая ее запястье. – Если вдруг поймешь, что я не останавливаюсь, продолжаю тараторить ни о чем… Даже если решишь, что это случайность… Обещай, Карин. Пакет на голову. Не желаю задерживаться до последнего.
– Ма, так ведь это против слова Божьего…
– А где это в Библии сказано? Где, покажи?
– Самоубийство?
– В том-то и дело, Карин. Не я себя убью!
– Понятно. Хочешь свой грех на меня повесить. Не убий.
– Так это и не убийство. А христианское милосердие. Разве мы не были милосердны к животным на ферме? Обещай, Карин. Пообещай.
– Ма, хватит. Начинаешь повторяться. Мне и так сейчас нелегко.
– О чем я и говорила. Совсем не весело.
Вот о чем, а о веселье Джоан Шлютер раньше никогда не переживала. И все же на закате жизни в ней проснулась нежность, и она выдала несколько жутких, полных любви извинений за все совершенные ошибки. В самом конце она спросила: «Карин, помолимся вместе?» – и Карин, поклявшаяся ни за что не обращаться к Богу, даже если Он первым обратится к ней, склонила голову и вторила молитве матери одними губами.
– Вам положены страховые выплаты, – сказала Джоан. – Немного, но все же. Вам двоим. Пусти их на благое дело, хорошо?
– В смысле, ма? Какое, например?
Но мать уже забыла, что есть благо. Только то, что его надо совершать.
Оторвавшись от строчек главы «Тайны Вудшеда», Карин произнесла:
– А знаешь, Марк, у нас с тобой такое детство было… Нам повезло, что от нас вообще что-то осталось.
– Осталось, – согласился Марк. – Что-то.
Карин вскочила, прижимая ладони к губам, словно заталкивала вырвавшийся крик обратно. Вытаращилась на брата. А он осел, прижался к простыням, будто хотел спрятаться, пока не минует опасность.
– Господи, Марк. Ты заговорил. Ты можешь говорить.
– Господи, господи. Марк. Господи, – сказал он и замолчал.
– Эхолалия, – заключил доктор Хейз. – Навязчивое повторение. Имитация услышанного.
Карин не сдавалась:
– Стал бы он говорить без причины? Его слова что-то значат, я уверена.
– Что же, на этот вопрос нейробиология пока ответить не в силах.
Речь Марка ходила кругами – так же, как и он сам. Однажды днем его заело на целый час, и он все повторял: «Цыпленок, цыпленок, цыпленок, цыпленок». Для Карин слова звучали симфонией. Перед очередной прогулкой по отделению она сказала: «А теперь давай-ка завяжем шнурки». В ответ прилетело: «Шнурки, поводки, одни дураки». Поток бессмыслицы продолжался, и вскоре Карин чувствовала, будто у нее тоже повредился мозг. Но в груди трепетало воодушевление: в завораживающем повторении ей послышалось «тесные башмаки». Спустя пару абсурдных цепочек он выдал: «Брысь, не тяни».
В словах Марка наверняка прятался какой-то смысл. С мыслями у них было мало общего, но в том, как он их произносил, угадывалась некая значимость. Когда они шли по переполненному больничному коридору, Марк брякнул: «Столько всего свалилось разом».
От радости она крепко его обняла. Он все понимал. И говорил! Другой награды ей и не нужно.
Марк высвободился из объятий и повернулся в сторону.
– Теперь надо из этой грязи сделать глину.
Она проследила за его взглядом и не сразу различила источник в гуле коридора. Чутким, как у животного, слухом, который Карин давно утратила, он улавливал обрывки разговоров окружающих, а затем сплетал их воедино. На такое хватило бы интеллекта и попугаю. Она прижалась лбом к его груди и зарыдала.
– Мы справимся, – сказал он; руки безвольно повисли по бокам.
Она отстранилась и вгляделась в его выражение. В глазах сквозила пустота.
Карин без устали кормила Марка, гуляла с ним и читала ему, ни на секунду не сомневаясь, что однажды он вернется. За реабилитацию брата она взялась с диким рвением, которого не проявляла ни на одной работе.
Следующим утром Марк и Карин проводили время в палате, как вдруг раздался мультяшный голос.
– Утречка! Как у вас делишки?
Карин с криком вскочила и бросилась обнимать незваную гостью.
– Бонни Трэвис! Где была? Почему раньше не пришла?
– Виновата, – ответила девочка-мультяшка. – Я не знала, стоит ли…
Она опустила глаза и прикусила губу. В порыве страха она схватила Карин за плечо. Поражение мозга. Болезнь похуже заразы. Невиновных она превращает в лжецов, а в яро верующих сеет сомнения.
Марк сидел на краю кровати, уложив ладони на колени и высоко подняв голову; на нем были джинсы и зеленая рабочая рубашка. Словно притворялся статуей Линкольна из мемориала. Бонни обняла его. Он не подал и виду, что ощутил прикосновение. Она отскочила, стараясь замять неловкий момент.
– Ох, Маркер! Я и представить боялась, что с тобой стало. А на деле выглядишь славно.
На побритом черепе два огромных русла реки пересекали неровный водораздел. Лицо, испещренное еще не зажившими ранками, напоминало персиковую косточку длиной в двадцать пять сантиметров.
– Славно, – повторил Марк. – Боялась, но на деле на теле на пределе славно.
Бонни рассмеялась, и ее модельное личико приняло цвет вишневого лимонада.
– Ух, вот ты выдал! Дуэйн вроде сказал, ты не можешь разговаривать, а ты вон как четко и ясно выражаешься.
– Ты разговаривала с ними? – спросила Карин. – Что они всем рассказывают?
– Выглядишь славно, – сказал Марк. – Красиво красиво красиво.
Рептильный мозг выползал на солнце.
Бонни хихикнула:
– Да, я специально переоделась перед визитом.
Она продолжала глупо болтать о всякой бессмыслице и чепухе и стала настоящим спасением. Скоростной словесный поток девушки долгие годы сводил Карин с ума, но теперь казался апрельским ливнем, что поднимает уровень грунтовых вод и подпитывает почву. Без устали бормоча, Бонни теребила то шерстяную юбку сливового цвета, то мешковатый свитер ручной вязки, на котором оттенки оливковой пряжи сливались в цвет Платт в августе. На шее висела подвеска с богом Кокопелли: он танцевал и играл на флейте.
Годом ранее, после похорон матери, Карин спросила Марка: «Вы встречаетесь? Она – твоя женщина?» Ей хотелось, чтобы у него в жизни была хоть какая-то поддержка.
Марк в ответ хмыкнул: «Да будь она и моей, все равно бы этого не поняла».
Бонни рассказывала окаменевшему Марку о новой работе – той, на которую устроилась после того, как уволилась с забегаловки.
– О такой профессии мечтает каждая. Ни за что не догадаешься. Я даже не знала, что такая работа существует. Я – экскурсовод в новой арке через трассу Грейт Платт Ривер Роуд. Вы знали, что наша новая арка – единственная в своем роде? Нигде больше нет памятника, который пересекает межштатную автомагистраль. Странно, что о ней нигде не трубят.
Марк слушал, разинув рот. Карин прикрыла глаза и погрузилась в прекрасный, пустой, бессмысленный шум.
– Мне костюм выдали, в стиле американских пионеров. Хожу в хлопковом платье в пол. И такой милой шляпке с кепочкой! В общем, полный набор. И мне надо отвечать на все вопросы посетителей так, словно я женщина из прошлого. Ну, как будто жила сто пятьдесят лет назад. Иногда люди такое спрашивают…
Карин и забыла, насколько упоительно бессмысленным бывает существование. Марк восседал на краю кровати, словно статуя фараона из песчаника, и, не мигая, смотрел на замысловато двигающиеся губы подруги. Страшась тишины, Бонни все болтала и лепетала о вигвамах, выстроенных вдоль съезда с Восьмидесятой трассы, о шествии буйволов, устраиваемом для туристов, о выстроенном в натуральную величину почтовом отделении девятнадцатого века и о великом строительстве шоссе Линкольна.
– И стоит это все восемь долларов и двадцать пять центов. Люди считают, что это дорого, представляете?
– Это ж почти даром, – произнесла Карин.
– Откуда к нам только не приезжают, вы бы знали!
Чехия. Бомбей. Неаполь – тот, что во Флориде. Большинство, конечно, птиц посмотреть хотят. Все популярнее они становятся. Начальник говорит, что за последние шесть лет туристов аж в десять раз больше стало. Благодаря журавлям о нас весь мир узнает.
Марк захохотал. Точнее, медленно закряхтел. Бонни вздрогнула. На секунду замялась, но потом тоже прыснула. Только больше не знала, что добавить, и мяла губы; щеки ее вспыхнули, а глаза заблестели.
Марку пора было снимать обувь и носки. Карин принялась исполнять ритуал, выученный за недели, проведенные у прикованного к постели брата. Продолжала она лишь по одной причине: другого занятия попросту не было. Марк послушно сидел, пока она снимала с него кеды. Бонни опомнилась и занялась второй ногой. Схватив Марка за босую ступню, она спросила:
– Хочешь, сделаю ногти?
Марк, судя по всему, задумался.
– Хочешь педикюр сделать? Вряд ли ему понравится.
– Да нет, мы уже делали. Марк в такой восторг пришел. Он называет свои ногти на ногах «задними когтями». Только ты не думай, это не извращение. А так, для прикола. Правда, Маркер?
Марк в ответ не двинул головой и даже не моргнул.
– В восторг, – сказал он хриплым и печальным голосом.
Бонни захлопала в ладоши и взглянула на Карин. Та пожала плечами. Порывшись в бахромчатой сумочке, Бонни выудила коллекцию лаков для ногтей, припрятанных на всякий случай. Она уложила Марка обратно на постель и повелела не дрыгать ногами.
– Как тебе «ледяная вишня»? Или лучше «синяк»? Нет. «Обморожение»? Отлично, оттенок выбран.
Карин наблюдала за процессом. Помогать Марку надо было раньше. Она опоздала на шесть лет. Сколько бы она с ним теперь ни занималась, как бы упорно ни лечила, вот таким он навсегда и останется.
– Я сейчас вернусь, – пообещала она и вышла из палаты.
Выбежав на улице без пальто, она направилась прямиком к заправке «Шелл», которая уже как неделю занимала все ее мысли. Бросила деньги на прилавок и попросила «Мальборо». Кассирша посмеялась: не хватало двух долларов. Шесть лет без сигарет, и цена взлетела в два раза. Глупо было завязывать. Добавив недостающую сумму, Карин получила заветную пачку. Она зажала в губах сигарету, и от одного вкуса фильтра тело затрепетало. Дрожащей рукой щелкнула зажигалкой и затянулась. Клубы неописуемого облегчения наполнили легкие и расползлись по всему телу. Закрыв глаза, она выкурила половину сигареты, затем аккуратно затушила ее и положила обратно в пачку. Вернувшись на территорию больницы, опустилась на холодную скамейку у входа, прямо перед раздвижными стеклянными дверями, и докурила половинку. Карин надеялась проконтролировать срыв, чтобы разом не кануть обратно в яму, в которую всеми силами старалась не скатиться последние шесть лет. И в то же время наслаждалась каждым крохотным шагом навстречу табачному рабству.
Сеанс педикюра в палате подходил к концу. Марк сидел на кровати, рассматривая пальцы на ногах, словно ленивец, разглядывающий ветку дерева или кадры фильма. Бонни все щебетала и суетилась.
– Ты как раз вовремя. Сфотографируешь нас?
Снова нырнув в волшебную сумочку, она достала одноразовый фотоаппарат. Затем присела к ногам Марка, и ее глаза цвета известняка удачно подчеркивали фиолетовые ногти.
Когда Карин поднесла пластиковый видоискатель к глазу, Марк улыбнулся. Что у него в голове, кто знает? Даже Бонни вряд ли догадывается.
Та радостно забрала у Карин камеру.
– Я потом принесу вам копии. – Она сжала плечо Марка. – Когда ты на сто процентов оклемаешься, мы оттянемся по полной.
Он ухмыльнулся и внимательно посмотрел на нее. Затем одной рукой потянулся к обтянутой свитером груди, а другой схватил себя за пах. С губ слетал поток слов:
– Трахнуть, бахнуть, попроси, отсоси, мне…
Взвизгнув, Бонни шлепнула его по руке и отскочила назад. Она прикрыла грудь и, дрожа, затаила дыхание. Затем дрожь сменилась нервным смешком.
– Я, э-э, не это имела в виду. – Но на прощание поцеловала его в заживающую макушку. – Люблю тебя, Маркер!
Он было ринулся за ней вслед, но Карин удержала его, поглаживая и успокаивая, пока он не оттолкнул ее руки и не откинулся на кровать, выгибаясь дугой, со взглядом, полным боли. Карин вышла за Бонни в коридор. Девушка стояла прямо у двери, прижавшись к стене, и плакала.
– Карин, прости. Я держалась как могла. Не представляла, что все так… Меня предупредили. Но его состояние…
– Все в порядке, – солгала Карин. – Пока имеем, что имеем.
Бонни настояла на долгом объятии, и Карин согласилась. Но только ради брата.
Выпутавшись, наконец, из рук девушки, Карин спросила:
– Ты знаешь, что случилось, той?.. Парни тебе что-нибудь?..
Бонни уставилась на нее выжидающим взглядом. Но Карин отвернулась и попрощалась. Когда она вернулась в палату, Марк лежал, откинувшись на предплечья, и разглядывал потолок, будто задумался во время упражнения.
– Марк? Я вернулась. Только ты и я. С тобой все в порядке?
– На сто процентов, – ответил он. – Оклемаешься. – Затем глубокомысленно покачал головой и повернулся к ней. – Я не это имела в виду.
Сначала, он нигде, а потом – нет. Перемена подбирается незаметно: одна жизнь сменяет другую. Вернувшись, он видит ничто, из которого вышел. То было даже не место, а потом нахлынули чувства. И все его ничто теряется.
Вот кровать, его жилище. Размером больше, чем город. Он простирается по всей длине ложа, словно кит по улице. Выброшенное на берег существо длиной в несколько кварталов. Океанская тварь, что явно здесь не к месту, приходит в себя и чувствует невыносимую, смертельную тяжесть гравитации.
Нет больше силы, что принесла его сюда и что может унести обратно. По всей дороге тянется расплющенное брюхо. Хвостовые плавники наколоты на заборы и деревья. По бокам – белые деревянные коробочки со скатными крышами, из нарисованных карандашом дымоходов вьется дымок. Дом с рисунка ребенка.
Киту больно и жутко холодно. Об это ему мощными сигналами говорит кожа. Брошенный, оставленный в одночасье исчезнувшей волной в плоской прерии. Мощные челюсти разверзаются, являя пасть-грот размером больше, чем гаражный въезд, и выпускают звук. Каждый крик из глотки сотрясает стены и разбивает окна. Вдалеке, через несколько кварталов, машет хвост. Выброшенная на берег тварь, стиснутая домами, пригвожденная к месту сиюминутным отливом.
Километры воздушной массы давят и спирают дыхание. Кит не в силах поднять даже легкие. Смерть в высохшем океане, удушение кислородом. Крупнейшее из ныне живущих существ, без малого бог, распластано, мышцы ослабли. Только сердце, размером со здание суда, продолжает биться.
Если кит чего и жаждет, так это смерти. Но смерть отступает вместе с убывающей водой. Дыхание его подобно землетрясению. Воздух все давит, кит раскрывает пасть и ворочается, подминая под себя жизни. В голове бушует буря. Копья и тросы свисают с боков. Подкожный жир отслаивается от тела пластами.
Идут недели, месяцы, и стоны гниющего холма стихают. Разбежавшиеся жители возвращаются. Крошечные сухопутные тычут монстра булавками и иглами, кромсают тушу, восстанавливают разрушенные дома. Птицы клюют разлагающуюся плоть. Белки отрывают от него куски и делают запасы на зиму. Койоты обгладывают кости до блеска. Машины снуют под громадными, сводчатыми ребрами. На отделах позвоночника висят светофоры.
Вскоре из костей прорастают ветки и листья. Жители ползают по его нутру, и для них он – просто улица, камни, деревья.
Части тела возвращаются, но так медленно, что сложно осознать. Он лежит на уменьшающейся кровати, проводит инвентаризацию. Ребра – да. Живот – на месте. Руки – две. Ног – тоже. Пальцев – много. Пальцев ног – вроде тоже. Пересчетом он занимается постоянно, но результат всегда разный. Проверяет все составляющие, как старый пересобранный механизм. Удалить. Очистить. Заменить. Перечислить снова.
Теперь его настойчиво тянет туда, откуда выбросило. Люди всучивают ему звуки, бесконечную череду бесплатных пробников. Судя по произношению, это слова.Как как как ты ты ты? Похожее можно услышать ночью в поле, если прислушаться. Марк, марк, марк, заставляют они его. Меняются говорящие, но галдеж все тот же. Бесполезно. Тишине его не укрыть. Его зачитывают по бумажкам, высказывают вслух. Собирают воедино, толкают вперед, создают с нуля. Слова без языка. А он – язык без слов.
Марк Шлютер. Шлюпка, шторка, штукатурка. Он цикличен. Шаг, два, три. Круг, по кругу и снова. Повторение необходимо. Форма обретает очертания, и в ней достаточно для него места. Он прячется глубоко внутри от шума и суеты. Иногда к нему обращаются щелкающие стебли с поля кукурузы. Он и не знал, что все умеет говорить. Приходится замедлиться, чтобы расслышать. В другой раз – илистая отмель, сантиметр воды. Его тело – суденышко. Волоски на руках и ногах – весла, сопротивляющиеся течению. Тело – объединенная нуждой группа бесчисленных микроскопических существ.
Наконец из горла выползают мысли. Извергаясь, рождаются слова. Паучата-волки, разбегающиеся с брюшка матери-звука. Каждый изгиб мира подает голос. Стучащие по окну ветки. Следы на снегу. «Повезло» кружит рядом. «Красиво» – на выдохе, от счастья встречи. «Хорошо» – пурпурный цветок, всходящий на лужайке.
Последний сломленный миг, и он, возможно, почувствует: меня погубило что-тона дороге. Но за этим следует лечение и возврат к путанице из мыслей и слов.
Иногда Марка так захватывала ярость, что бесился он даже от необходимости лежать на кровати. Тогда врачи просили ее выйти. Помочь им, исчезнув. Она ночевала в Фэрвью, в модульном доме брата. Кормила его собаку, оплачивала его счета, ела с его тарелок, смотрела его телевизор, спала в его постели. Курила Карин только на веранде, в отсыревшем складном парусиновом кресле с надписью «Урожденный Шлютер», на промозглом мартовском ветру, чтобы к возвращению Марка гостиная не пропахла дымом. Установила себе лимит: сигарета в час. Старалась не выкуривать одним махом, а смаковала табак, закрывала глаза и прислушивалась ко всему вокруг. На рассвете и в сумерках, когда слух обострялся, она улавливала раскатистую трескотню журавлей, то и дело перебиваемую видеотренировками соседей и грохотом пятиостных фур, снующих туда-сюда по федеральной магистрали. До фильтра она доходила за семь минут, а еще через пятнадцать уже снова смотрела на часы.
Наверное, стоило обзвонить старых друзей, но она не стала. Каждый раз, выходя в город за покупками, пряталась от бывших одноклассников. Но избегать встречи не всегда получалось. Казалось, она проживает киноверсию прошлого: люди играли прежние роли, но стали намного приятнее, чем раньше. За их сочувствием пряталась жажда подробностей. Как там Марк? Сможет вернуться к нормальной жизни? Она заверяла, что он почти поправился.
Но был номер, который ее так и подмывало набрать. В дни, когда бороться с Марком становилось невозможно, она бежала из больницы, покупала два литра полюбившегося ей еще в университете пива «Галло», приезжала к Марку домой, напивалась за просмотром канала «Классика кино», а затем принималась набирать номер, просто чтобы ощутить трепет запретного предвкушения. На четвертой цифре вспоминала, что еще не умерла. Что угодно может случиться. Она бросила его, как сигареты, но забыла не сразу. Карш. Холеный, проворный, не знающий сожалений Роберт Карш, выпускник старшей школы Карни восемьдесят девятого года. Расчетливый парень, которого ей однажды пришлось вытурить из машины в глуши, и единственный, кроме Марка, кто всегда видел ее насквозь. Но стоило вспомнить его голос – манерой напоминавший то ли проповедника, то ли порнографа, – как наваждение рассеивалось, и пальцы застывали, не успев ввести последние три цифры.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Александр Романович Лурия (1902–1977) – выдающийся советский психолог и врач-невролог, один из основателей нейропсихологии.
2
Лорен Айзли(1907–1977) – известный американский антрополог и натуралист, один из наиболее прославленных американских эссеистов ХХ века.