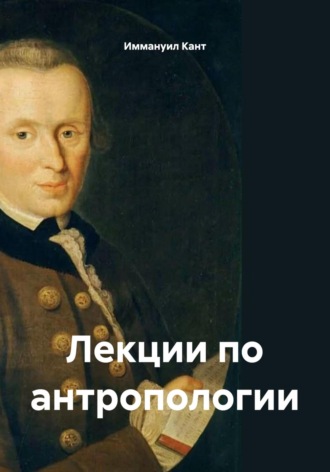
Полная версия
Лекции по антропологии
Бывает и избыток внимания: кто-то не выносит грубости или оскорбления.
Внимание и абстракция могут быть произвольными или нет. Высшее совершенство – владеть всей своей деятельностью. Кто может управлять вниманием и абстракцией, тот устроит жизнь по правилам мудрости.
Счастливейший – кто властен над своим вниманием. Опыт показывает, что, отвлекая мысли, можно смягчить даже боль. Преступник на дыбе, уставившись на картину, долго терпел, но стоило завязать глаза – он сразу сознался.
Стоическое правило – не позволять страстям владеть собой – истинная мудрость. Стоики утверждают, что мудрец может лишить силы любое впечатление. Например, подагру можно атаковать так, чтобы она не влияла на дух.
Учить нравственным правилам человека в страсти так же бесполезно, как читать правила счастья галерному рабу.
Странно, но неопределённость ожиданий причиняет двойную боль. Когда несчастье наступает, человек смиряется, каким бы оно ни было.
Противоположные доводы могут вести и к надежде, и к отчаянию (например, в болезни друга). Мы мечемся – а это худшее состояние, хуже даже самого несчастья.
Руссо прав, говоря, что врачи делают людей трусами. Но можно ли приготовиться к несчастью заранее? Умерить страстное желание? Мы не готовимся, пока беда не станет вероятной.
Стоики хорошо рассуждали теоретически, но не указали, как воплотить их правила.
Ипохондрики – те, чьё внимание непроизвольно. В здоровом уме человек владеет своими глупостями, выбирая лишь общепринятые (ибо общепринятые глупости зовутся благоразумием).
Некоторые имеют в голове не больше глупостей, чем другие, но не могут их сменять по желанию.
Иногда человек хочет забыться (например, при бессоннице). Лучшее средство – позволить мыслям смешиваться, ни на чём не останавливаясь.
У китайцев счастливейшее состояние – когда не сознаёшь ни тела, ни впечатлений, ни страданий.
О сложных представлениях.Сложное представление (perceptio complexa) возникает, когда помимо собственно представления к нему присоединяются дополнительные, субъективно обусловленные представления, проистекающие из нашего положения. Например, я вспоминаю грамматическое правило, и мне одновременно приходит на ум грозный вид учителя или наказание розгами. Все наши представления всегда окружены сопутствующими, которые непрестанно следуют за ними. Хотя в отношении объекта главное представление (первичное, объективное) должно выступать наиболее явно, часто случается, что сопутствующие представления воздействуют на субъект сильнее, чем основное. Это необходимо чётко различать.
Например, при посещении церкви объективно главным представлением должно быть благочестие, но серьёзность собрания, великолепие здания, гармония пения – если убрать это, основное представление полностью исчезнет. Не стоит думать, что люди, поющие после обеда священные гимны, делают это исключительно из благочестия – им нравится мелодия, да и вообще все любят петь. Поэтому следует тщательно избегать того, что делает сопутствующие представления чрезмерно действенными, и сохранять лишь то, что обостряет внимание на главном.
Даже в науках и поступках можно наблюдать этот порог подмены (vitium subreptionis). Приличие – всего лишь спутник добродетели, и большинство любит этого спутника больше, чем саму добродетель, или же добродетель – лишь ради него. Женщины особенно склонны обращать внимание на сопутствующее, на внешнюю оболочку, а не на суть.
Жена Мильтона уговаривала его принять должность секретаря, предложенную Карлом II, но он ответил: «Сударыня, вам хочется ездить в карете, а мне – оставаться честным человеком». Жена, возможно, думала: «Кто догадается, что мой муж нечестен, если я буду разъезжать в карете?» Часто мы не можем объяснить свои чувства, когда одни вещи воздействуют на нас сильно, а другие – едва заметно. Порой мы не можем убедить себя, даже если весь мир убеждён, потому что сопутствующие представления (perceptiones adhaerentes) в субъекте часто сильнее первичных.
Предвзятость в пользу пола проявляется на опыте. История об английском офицере, присутствовавшем при битве при Фонтенуа, когда сражение было проиграно, иллюстрирует это: большая компания, занятая игрой, нимало не смутилась его рассказом о гибели тысяч людей, но когда он упомянул о несчастье молодой женщины, потерявшей жизнь из-за любви к мужу, всё общество тут же прониклось скорбью. Разве это не убедительное доказательство предвзятости в пользу прекрасного пола?
Без сопутствующих элементов любое представление сухо. Так называют голую истину, лишённую украшений, – она, как пилюли, которые трудно проглотить без изюма. Сухое, лаконичное не нравится, если только оно не облечено в занимательную форму. С ответами – как с блюдами: соус должен сопровождать и то, и другое, и обычно именно он становится главным. Сухость всегда неприятна.
Об убеждении, уговорах и согласии.Убеждение и уговор субъективно неразличимы. Соответствие познания объектам есть истина. Если я осознаю эту истину в своём познании, это – уговор или убеждение. Сами мы не можем их различить. Лишь другие, видя, что я осознаю истинность своего познания, которое они, однако, не считают истинным, называют моё осознание уговором. Если же познание истинно, они именуют его убеждением.
Что касается согласия, то часто его добиваются просто потому, что противная сторона устала спорить или судье нужно заняться другим делом. «И вор пошёл на виселицу, потому что судье хотелось есть», – говорит поэт.
В Турции судья терпит крик, пока может, но если шум становится невыносимым, он велит выпороть обе стороны, чтобы остудить их пыл и заставить говорить тише, а затем решает по своему усмотрению. Часто побеждает слабейший, потому что другой слишком упорно настаивает на своём праве. Никто не любит, когда ему приказывают, и никто не может принудить к согласию. Нужно излагать доводы, а не бушевать. Некоторые законы оспариваются именно потому, что их вводят слишком настойчиво и триумфально. Субъективные причины часто объясняют подобные явления.
Эстетика.Завершим рассмотрение представлений объяснением эстетики. Это наука о чувствах. Различение удовольствия и неудовольствия – эстетично. Эстетику можно разделить:
1. Трансцендентальную – различающую чувственные представления от интеллектуальных. Она рассматривается в метафизике при изучении источников познания, особенно формы чувственности, то есть пространства и времени.
2. Физическую – изучающую органы тела; её часть, физиологическая, исследует ощущения.
3. Практическую – анализирующую удовольствие и неудовольствие в ощущениях.
Учение о чувствах.Разум – это способность, чувства – возможности. Все чувственные познания относятся к низшим способностям, а те, что происходят из разума, – к высшим. Внутренне мы не можем различить много чувств, так как душа проста и не имеет столько органов, как тело, поэтому внешне мы замечаем множество чувств. Мы говорим, что у нас есть один внутренний смысл и несколько внешних.
Чувство осязания, кажется, распространяется через всю нервную систему, поэтому у нас только четыре чувства, каждое с особой организацией. Нервы и волокна – словно животные потенциалы, остальные – лишь инструменты тела.
Объективны чувства, когда они дают представление о предмете; субъективны – когда вызывают лишь изменения во мне (например, вкус и запах). Поэтому они не порождают в нас познания и считаются низшими, но воздействуют сильнее объективных.
Запах – непосредственное возбуждение, не требующее истолкования. Он сочетается с фантазиями и химерами, вызывая больше досады, чем удовольствия. Приятный аромат радует лишь кратковременно – он хочет лишь лёгкого касания. Дикари не находят ничего лучше кухонного чада. Удовольствие от запаха – не природное, а надуманное. Дети могут быть так же счастливы в дурно пахнущей комнате, как и в благоухающей.
Вкус также подвержен предрассудкам. То, без чего потом нельзя обойтись, сначала требует рекомендации (например, икра, курение табака).
К органам познания относятся:
– Осязание (отличающееся от чувства) – через него мы познаём субстанцию.
– Зрение – также субстанцию и форму.
– Слух – последовательность во времени (игру).
Теория чувственности.
Во всех чувственных представлениях можно различить:
1. Материю – воздействие на чувства, но одного впечатления недостаточно для понятия.
2. Форму – прежде всего форму созерцания. Пространство и время – формы всех чувственных созерцаний. Отношения пространства дают фигуры, времени – игру (например, музыка, последовательность звуков).
Помимо способности чувствовать, у нас есть способность превращать ощущения в явления, создавать из их порядка нечто соответствующее. Простой набор впечатлений ещё не даёт образа или объекта. Ум должен уметь, сравнивая и объединяя впечатления, создавать мозаичное изображение. Эта способность включает:
1. Изображение – создание представлений из ощущений, дающих материал для познания. Простота приятна и является условием искусства, так как облегчает формирование образа в душе. Поэтому люди на торжествах любят ходить парами.
2. Воспроизведение – создание представлений о вещах, которых сейчас нет, но которые были раньше. Это способность заимствует и материю, и форму из чувств. Её называют фантазией или воображением (imagination).
3. Предвосхищение – берёт материал из чувств и, опираясь на данные, формирует представление о будущем.
4. Вымысел – создание того, что не взято из чувственных представлений (например, ужасы смерти). В философии не следует смешивать вымысел с предвосхищением. Обыденная речь различает их так же, как и мы. Для вымысла всегда требуется выдумка. Он берёт материал из чувств, но форму создаёт сам. Воспроизведение берёт и материю, и форму из чувств.
Ощущение – низшая из способностей души; душа здесь пассивна. Мы не можем избежать впечатлений от присутствующих объектов, но можем отвлечь внимание или избежать их. Животные тоже способны чувствовать, но отвлекать внимание от всего – это умение, которое можно развить привычкой и упражнением.
Нельзя без восхищения смотреть на героизм американцев в этом отношении. О, как пагубны поэты, размягчающие душу! Лишь привычка убеждает нас, что мы так подвластны чувствам. Но есть ли у души власть над внутренним состоянием? Ещё большая и более лёгкая, чем над внешним. Потворство собственным фантазиям, отсутствие власти над навязчивыми тревогами, влюблённые грёзы – вот самое жалкое состояние. Чем больше человек привыкает размышлять, тем слабее его привязанность к определённым вещам. Размышления охлаждают гнев и пыл желаний. Постепенно человек освобождается от всего. Но ему всё равно есть чем заняться, ибо он должен быть постоянно деятельным.
Те философы, которые отрицают реальность внешних объектов, теоретические идеалисты, не получают ни преимуществ, ни вреда. Их опровержение сводится к разрешению словопрения. Практические идеалисты – те, кто действует, словно живёт в мире, который им только снится. Чтение романов и незнание мира приводят некоторых к такому странному умонастроению. Геллерт был близок к этому.
Польза романов не в том, чтобы трогать или вызывать печаль, а в том, чтобы учить и показывать мир таким, какой он есть. Хотя автор может нагромождать события и менять их связь. Я бы почитал поэта, который научил бы меня чувствовать то, что есть в реальном мире. Если для меня там ничего нет, пусть он выставит глупости мира в комическом свете, но без сатирической горечи. Филдинг, если бы не его излишняя склонность к романтизму, кое-что сказал об этом.
Все наши познания начинаются с чувств и ими же заканчиваются. Чувства – основа и цель; мы черпаем познание из них. Применение разума должно основываться на опыте. Наши познания не только начинаются с чувств, но и относятся к ним – они есть цель, на которую мы опираемся.
Об идеализме.Идеализм – это метод рассматривать вещи как явления и представлять реальным только себя. Он либо вовсе не признаёт ценности внешних вещей, либо не отводит им должного места. Внешние вещи не имеют внутренней ценности: что пользы в горах алмазов и реках нектара, если нет разумных существ, способных наслаждаться ими? Это разумный идеализм, который полагает ценность телесной природы вне её.
Некоторые, исходя из этого, стали считать, что телесные вещи не имеют ценности, и даже отрицать их существование. Эти люди полагали, что между представлениями сна и бодрствования нет разницы, кроме более строгого порядка фантазий в бодрствовании. Этот ложный теоретический идеализм, видимо, возник из практического, но не имеет больших последствий.
Разумный идеализм – это пренебрежение действительной ценностью вещей и удовольствие от фантазий, созданных воображением, представлений о новом мире, который был бы лучше по нашему разумению. Например, что все честные люди должны ездить в каретах. Романы заняты тем, что изображают то, что нам нравится больше обычного порядка.
Человеку нравится приходить к счастливой жизни через несчастные судьбы, а не наоборот, поэтому романы строятся так. Обычно их замысел таков: счастливые и несчастные события чередуются; молодой рыцарь то в высшем почёте, то в рабстве (но не в изнурительном труде), то в Алжире, то король среди дикарей. Потом он низвергнут, после многих опасностей возвращается на родину, где наконец обретает счастье и неожиданно находит свою возлюбленную, которая тоже участвует в действии. Иногда создаются и лучшие характеры, вроде Грандисона или Клариссы, но многие молодые люди губят своё жизненное счастье из-за фантазий, которые они себе внушают.
Многие девушки считают историю правдой и мечтают, чтобы их похитил рыцарь.
Эстетический идеализм.Эстетический идеализм либо химеричен (как его сейчас излагают), либо согласуется с разумом – при условии, что образцы, по которым он судит о вещах мира, выбраны удачно. Если кто-то хочет судить о чём-то чувственно, он должен избрать себе совершенный идеал. Для создания идеала совершенной красоты требуется тонкий вкус.
Эстетический идеализм отличается от природы, несколько отклоняясь от неё в том, что скрывает действительные потребности. В обществе считается приличным умалчивать о домашних удобствах и нуждах. Прообразы вещей или оригиналы мы не должны заимствовать из природы, а должны создавать совершенные вещи.
Как же формировать вкус, стиль и красноречие у молодых людей? Нужно давать им древних в пример, чтобы они сами создавали себе образец по ним. Не следует заставлять их копировать красоты, но их гений должен развиваться самостоятельно. Они не должны заучивать красивые фразы наизусть и считать их прекрасными просто так, но их гений должен вдохновляться прекрасным.
Если молодые люди что-то заучили и крепко запечатлели в памяти, они насилуют себя и учатся мыслить несвободно. Если знаешь десять французов, можно быть уверенным, что знаешь их всех: в моде, лицах, сочинениях и прочем они почти одинаковы – все следуют одному образцу.
У англичан, напротив, господствует своеобразная частная гордость и всеобщая необщительность. Поскольку они не любят подстраиваться друг под друга, их гений развивается свободно. Поэтому среди них встречаются различные выдающиеся умы, ибо в письме они руководствуются не шаблонами, а идеалами.
Вещи мира почти не имеют ценности, кроме той, которую мы им придаём. Провидение не дало нам способности изменять вещи по нашему желанию, а лишь позволило придавать им ценность, как мы хотим. Богатый купец, ставший пешеходом, поступит мудро, если сумеет приспособиться к своему положению и найти в нём преимущества. Всё зависит от того, как он на это смотрит: он может считать, что ходьба имеет много преимуществ перед ездой – она удобнее и даёт хорошую физическую нагрузку. Но если потеря чести и уважения мучает человека, тогда он несчастен. Не следует придавать вещам чрезмерной важности, нужно быть господином над всем и хозяином самого себя.
О внешних ощущениях.Прежде всего, нужно различать ощущение и явление:
– Ощущение – это воздействие на наши органы.
– Явление – это представление о причине ощущения, о предмете, который его вызвал.
Иногда преобладает ощущение, иногда явление. Когда я слушаю музыку или чью-то речь, я больше внимания уделяю явлению, чем ощущению. Но если крик так громок, что уши болят, я сосредоточен на ощущении, а не на размышлении о явлении.
В большинстве случаев, поскольку предметы мало воздействуют на нас, мы даже не замечаем, что подвергаемся влиянию. Мы размышляем больше о предметах, чем об изменениях в органах чувств. Но если воздействие сильно, рефлексия прекращается. Например, если кто-то пробует лимонный сок, он осознаёт: «Это кисло». Но с серной кислотой он не думает о кислоте, а лишь чувствует боль.
Каждый вид чувственного представления может быть совершенен двояко:
– Сила представления зависит от степени ощущения.
– Ясность – от явления, насколько я сосредоточен.
Чувства можно разделить на:
1. Те, через которые нам являются предметы.
2. Те, через которые мы являемся самим себе.
Ощущение также называют чувством. То, что противоположно познанию, именуют чувством – это осознание изменений в субъекте. Но у этого слова есть и другое значение: осязание, то есть исследование предметов через прикосновение. «Чувствовать» и «осязать» – не одно и то же.
Все предметы действуют на наши чувства либо непосредственно (при прикосновении), либо через посредствующую материю. Например, солнце мы ощущаем не прямо, а через свет; друга слышим через воздух; запахи воспринимаем через испарения тел.
Не все тела пахнут – отчасти потому, что не все содержат летучие соли, или потому, что они слишком летучи и рассеиваются, не достигнув органа обоняния. Мы ощущаем вкус не самих тел, а лишь растворённых в слюне солей, проникающих во вкусовые сосочки.
Единственное непосредственное чувство – осязание. Также чувства различаются по типу воздействия:
– Механическое (давление, удар) – осязание, слух, зрение.
– Химическое (растворение веществ) – обоняние и вкус.
Слюна – прозрачная жидкость, отличающаяся от вязкой мокроты; она растворяет всё.
Замечания.
Осязание, кажущееся грубым, – основа всех познаний, учитель остальных чувств. Через слух мне не является ни один предмет. Зрение даёт нам образы, но само по себе оно бесполезно – оно обманывает, не показывая сущности. Мы принимаем радугу за тело, как и часто называем «духами» то, что видели, но не могли схватить. Осязание сообщает нам о субстанциях.
Один слепой, прозревший в Лондоне, не мог различать предметы зрением, пока не ощупывал их. Осязание упрекают лишь когда вещества слишком тонки для прикосновения.
Вкус даёт меньше всего понятий о предмете, но, будучи субъективным, производит сильнейшие впечатления, ибо ближе всего к осязанию. Весь рот, а возможно, и все сосуды до места выделения молочного сока, усеяны вкусовыми железами.
Пища, приятная вначале, часто имеет менее стойкий приятный вкус. То, что оставляет приятное послевкусие, дольше нравится и полезнее для здоровья, ибо гармонирует с железами пищеварительных органов. Вероятно, вкусовые железы отличаются от тех, что расположены внутри пищеварительных сосудов.
Дикари находят наибольшее удовольствие в удовлетворении вкуса. Вкус и половое влечение – сильнейшие человеческие склонности; оба необходимы для сохранения человека, но могут и погубить его.
Вкус обладает невероятной тонкостью. Обоняние и вкус тесно связаны (например, уксус можно и нюхать, и пробовать).
Некоторые чувства можно назвать частными, другие – сообщающими. К последним относится прежде всего зрение, позволяющее самую широкую коммуникацию идей (например, через письмо). Слух менее коммуникативен. Вкус и осязание – частные ощущения. Обоняние ближе к слуху.
Чем объективнее чувство (то есть чем больше оно расширяет познание и основано на осязании), тем благороднее оно считается. Без осязания мы не знали бы, что делать с представлениями от других чувств.
Хотя слух устроен так, что каждый может воспринимать представления по своему усмотрению, можно было бы предположить, что его легче лишиться, чем зрения. Однако люди скорее откажутся от зрения, чем от слуха, ибо он позволяет общаться – величайшее удовольствие в жизни.
Зрение даёт разуму множество опытов; через него мы можем сразу получить массу представлений, почти не напрягая орган. Этот орган показывает изменения не в себе, а в предмете.
Слух же иногда вызывает изменения в самом органе (например, если звук слишком резкий и уши болят).
Многие люди могут видеть один предмет, и один человек – множество предметов.
Истинно прекрасное – не то, что нравится одному, а то, что нравится всем в опыте. Таким образом, я познаю истинную красоту через слух и осязание.
Мы называем соответствующим вкусу всё, что приятно чувствам, вероятно, потому что сводим всё к вкусу.
Слух даёт нам новые субъективные явления; через него мы не познаём предмет. Поскольку слух не представляет нам ни вещей, ни их свойств (звуки не имеют качеств, они выражают единства), в отношении слуха можно лишь считать, как в отношении зрения – образовывать.
Слух – истинная арифметика души; отсюда возникли аккорды, и древние называли музыку гармонией. Слух обучает и активизирует разум, помогая схватывать быстрые соотношения и упорядочивать понятия. Он представляет вещи не в пространстве, а во времени.
Удивительно, как точно мы разделяем время через слух – благодаря последовательным колебаниям воздуха. Высочайший тон струны делает 6000 колебаний в секунду, и мы различаем даже разницу в 100 колебаний – это уже другой тон.
Кажется, что услышанное дольше сохраняется в памяти и легче вспоминается, чем увиденное или воспринятое иным чувством. Известно, что, услышав понравившуюся музыку, человек мысленно повторяет её, но если напевать вслух, это мешает.
Слух – также средство передачи идей, отчасти потому, что сами слова ничего не значат и потому могут лучше обозначать другое, отчасти потому, что звук распространяется кругами и достигает всех сразу. В отличие от света, который идёт прямо и затрагивает лишь глаза.
Кроме того, язык очень подвижен и способен к большому разнообразию. Поэтому мы говорим словами, а не мимикой (хотя и это возможно), ибо нет иного способа так сильно воздействовать на другого: даже если он отвернётся, он всё равно услышит. Мимикой мы не смогли бы передать столько.
Обоняние ценится выше вкуса:
1. Оно тоньше.
2. Оно также сообщающее.
Эта последняя черта заставляет людей пользоваться духами – чтобы неприятные запахи не достигали других.
Слух ценится выше обоняния, ибо обоняние кажется приобретённым чувством. Но если начать различать запахи, оно становится самым утончённым, и отвращение, им вызываемое, может довести до обморока. Рвота, чихание и т. д. возникают от обонятельных ощущений.
Чувства называются совершенными, чем больше они дают познаний и чем более сообщающие. Таким образом, зрение и слух – самые совершенные. Первое помогает преимущественно рассудку, второе – разуму.
Слух – превосходнейшее средство общения между разумными существами. Можно придумать и другие способы передачи мыслей, но ни один не так лёгок (речь не утомляет) и не так действен.
Благодаря слуху я могу воспринимать огромное разнообразие звуков. Женщины любят много говорить – возможно, для того, чтобы мы, воспитываясь ими, быстрее научились речи.
Слух – истинно общественный орган, и ничто не может быть так разнообразно, как знаки слуха (слова). Ни одно чувство не способно доставить более глубокого и разумного удовольствия.
Из всех удовольствий общественные – величайшие и превосходнейшие. Слух через язык даёт гораздо больше общения, чем зрение без слуха.
Зрение имеет преимущество в том, что показывает вещи непосредственно.
Гармония доставляет очень живое удовольствие, поэтому слепые, имея лишь слух, часто очень счастливы, тогда как глухие, даже зрячие, обычно угрюмы и недовольны. Слепые лишены лишь созерцания предметов, глухие – общества.
Обоняние и вкус позволяют нам ощущать не свойства самих вещей, а изменения в наших органах. Обоняние, кажется, более связано с разумом и тоньше, чем вкус, поэтому мы считаем его более благородным, поскольку при обонянии мы также больше судим. Ни один из органов чувств не связан так с аппетитом, как вкус, и это происходит потому, что вкусовые железы проникают глубоко во внутренности. Поскольку он связан с нашими потребностями, он менее благороден.
Но для чего же нам нужно обоняние? Мы ведь чаще ощущаем неприятные, чем приятные запахи. В общественной жизни чувство обоняния кажется нам даже излишним, а порой и обременительным. Однако в диком состоянии люди в нем крайне нуждаются. Американцы (индейцы) обладают поразительно тонким обонянием, как и животные. Кроме того, оно помогает нам избегать вредных испарений, губительных для здоровья.









