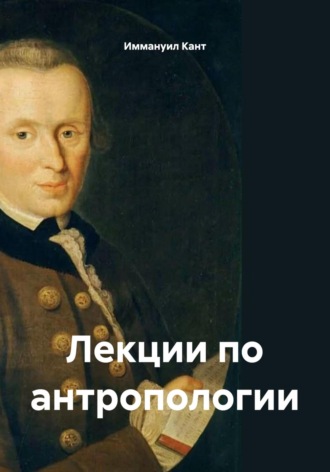
Полная версия
Лекции по антропологии
Волшебная лоза признаётся горняками, и оспаривать этот обычай – значит наживать себе врагов. Даже Валлериус, знаменитый шведский натуралист, разделял это мнение. Некоторые более разумные защитники этой идеи, всё же чувствуя в ней суеверие, опускали часть обстоятельств. Раньше говорили, что нужно срезать ореховый прут в ночь на Ивана Купалу, держа его наружу, и тогда, подойдя к месту, где есть металл, прут наклонится к земле и начнёт колебаться. Чтобы сделать это правдоподобнее, некоторые говорили, что прут не обязательно срезать в эту ночь. Другие шли дальше, утверждая, что материал не важен – дело в человеке, а движение лозы объясняется электрическим действием минеральных частиц на тело.
При слушании подобных чудес в нас всегда звучит голос: «Пользуйся своим разумом!» Ибо если разум отбросить, у нас останется лишь животный инстинкт, игра воображения и поверхностные сравнения.
О душевных способностях.Познавательные способности принято локализовать в голове, тогда как желания относят к сердцу. Человеку нередко дают имя, заимствованное из той способности, к которой он наиболее склонен. Что касается познания и умственных способностей, существуют разные типы голов: ученые, рассудительные и рассеянные. В науках различают эмпирические, поэтические, математические и философские умы – эти названия происходят от объекта их занятий.
Всегда стоит исследовать, какие именно душевные силы требуются для формирования того или иного склада ума или способности. Например, что нужно, чтобы обладать даром наблюдательности? В медицине необходим эмпирический ум, которому не требуется тонкость абстрактного суждения (хотя и это может быть полезно). Прежде всего, врач должен замечать все обстоятельства и их взаимосвязи, чтобы определить, чем болен пациент. Когда умер Карл V, врачи еще спорили о том, какая болезнь его свела в могилу. Эмпирический ум требует не только остроты чувств, но и способности сравнивать – то есть развитой чувственной интуиции, умения вспоминать предыдущие обстоятельства и проводить параллели с другими похожими случаями.
В «Гамбургском журнале» описан случай, когда один крестьянин страдал необычной болезнью: он высыхал настолько, что при ходьбе у него стучали кости. Врачи исследовали болезнь и применили некоторые средства, полагая, что в суставах исчезла синовиальная жидкость. Они предположили, что ртуть, смешанная со слюной, могла бы помочь восстановить её. Больному нанесли ртутную мазь, и это подействовало.
Врач, которому я доверяю, должен быть опытным. Ему не обязательно глубоко знать анатомию человеческого тела (эта область ограничена, как бы медики ни превозносили её), но он обязан разбираться в разнообразных болезнях, применяемых против них средствах и их действии. Гиппократ, стоявший во главе врачей, ничего не знал о кровообращении, однако преуспел в практике. Хорошее историческое знание вместе с наблюдательностью может принести больше пользы, чем лечение a priori по системе, где человеческое тело должно подстраиваться под схему, сложившуюся в голове врача.
Математик требует совершенно иного склада ума, нежели философ. Между этими науками – огромная разница. Философия – скорее наука гения, тогда как математика – скорее искусство, ремесло, которое можно освоить и достичь в нём больших высот, даже не изобретая ничего нового. Достаточно долго и внимательно заниматься предметом и обладать хорошей памятью, чтобы удерживать задачи в голове. В философии нельзя полагаться на то, что другой уже открыл и сказал. Философский ум требует определённой остроты, способности менять ракурс рассмотрения предмета и прослеживать последствия. В математике простейшие познания – самые лёгкие, в философии же – самые трудные. В философии я не могу мыслить случай абстрактно – сначала мне нужно рассмотреть конкретный пример. Например, справедливость: если я затратил на дело больше труда, чем ожидал, то заслуживаю большего вознаграждения, чем договорился. Другой не обязан платить мне больше, но из справедливости может это сделать. В математике всё наоборот: я не могу рассматривать предмет конкретно, только абстрактно. Например, чтобы измерить гору, я должен представить прямую линию и затем произвести расчёты.
Поэтический ум – утончённый и своеобразно организованный, он творческий. Когда человек творит, должно получиться нечто, не соответствующее изначальному замыслу.
Читая Мильтона в «Путешествии ангела», можно заметить, что у поэта присутствует манера, стиль изложения, но не сами вещи, а лишь их тени. Он подражает голосу добродетельного, сам не будучи добродетельным, говорит тоном героя, не имея героического сердца – подобно тому зверю, что наводил ужас на лес, завернувшись в львиную шкуру, но выдавал себя длинными ушами. Поэт может не иметь собственного характера, но умело подражать характерам всех людей, принимая лишь их видимость. Он должен обладать остроумием и лёгкостью, чтобы преобразовывать собственный образ мыслей и ставить себя на место другого. Он также должен уметь проводить множество сравнений. Замечено, что если поэт хочет хорошо описать характер, он должен перенять и мимику того, кого изображает. Говорят, профессор Пич надевал сапоги для верховой езды и ходил по саду, чтобы лучше изобразить героя. Кажется, человек не может полностью вжиться в роль другого, не переняв его выражение лица. Это заметно, когда люди что-то рассказывают.
Механический ум. Некоторые с детства заняты резьбой, рисованием и тому подобным. Бывают и музыкальные умы. Было бы очень полезно исследовать, что требуется для каждого рода деятельности. Тогда можно было бы сразу сказать молодому человеку, какое ремесло ему подходит. Нехорошо, когда юноши сами выбирают себе занятие, ибо руководствуются ложными мотивами: один хочет стать врачом, чтобы гулять и навещать пациентов по пути, другому нравится духовный сан, потому что ему по душе пафос, а вокруг проповедника – тишина, и только он может говорить. Хуже всего, когда люди берутся за то, к чему у них нет ни малейшей способности. Многие пишут стихи, которые никто не читает, другие бесконечно бренчат на фортепиано, осмеливаются даже сочинять – и никто их не слушает. Они пренебрегают тем, к чему у них есть природная склонность, и занимаются тем, для чего не имеют никаких способностей. Они хотят сами определять свои цели, словно, подобно Прометею, могут устанавливать законы творения.
Изучение умов имеет огромное значение. Сейчас отделы искусств и наук заполняются случайными людьми, и поскольку выбор делается не по склонности, а часто по принуждению или ещё чаще – по заблуждению, то никто не попадает на своё место. Получился бы забавный план, если бы каждого человека поставили на подходящее ему место. Многие плохие юристы тогда стали бы хорошими дровосеками. Человеческая свобода создаёт эту путаницу, заставляя людей выбирать чужие роли.
Был бы забавный план – расставить всех людей на свои места. Многие плохие юристы тогда стали бы хорошими дровосеками. Человеческая свобода создает эту путаницу, заставляя людей выбирать чужие роли. Возможно, именно эта путаница порождает удивительное разнообразие среди людей, хотя иногда они так запутываются, что уже не могут выбраться.
Отсюда проистекает общее понятие о гении.
Гений означает оригинальный дух. Слово «дух» употребляется во многих случаях: о собрании, о картинах – говорят, что речь «без духа», ей не хватает живости. Оригинальный дух – это не дух подражания.
До сих пор мы рассматривали познавательные способности человека, теперь перейдем к его чувству удовольствия и неудовольствия и рассмотрим его побуждения к деятельности.
Три выражения весьма различны и часто противоположны:
1) «это доставляет удовольствие»,
2) «это нравится»,
3) «это одобряется».
То, что доставляет удовольствие, – приятно; то, что нравится в своем явлении, – прекрасно; то, что одобряется, – добро. Таким образом, болезненное весьма отлично от дурного.
Удовольствие и неудовольствие в отношении к ощущениям – это приятное и боль. В отношении к вкусу предметы составляют прекрасное или безобразное. В отношении к чистому разуму они называются добром или злом.
Добродетель одобряется как высшее благо и нравится превыше всего, ибо все, кроме нее, относится лишь к приятному. Но, увы, сама по себе она нас не услаждает.
Чувство удовольствия и неудовольствия отличается от вкуса. Если мы сравним все случаи, вызывающие в нас удовольствие или неудовольствие, то обнаружим общее правило: все, что приводит нас к гармонии, давая почувствовать нашу жизнь, доставляет удовольствие; а все, что сковывает наши жизненные силы, вызывает неудовольствие.
Таким образом, принцип всякого удовольствия или неудовольствия заключается в содействии или препятствовании нашим жизненным способностям.
Например, глаз испытывает наибольшее удовольствие, когда он приводится в возможно большую активность предметами. Но если вид предметов таков, что глаз напрягается, или одно впечатление уничтожает другое, или если вовсе нет впечатлений, то он чувствует неудовольствие – разве что другой орган чувств в это время получает удовольствие или приводится в активность.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









