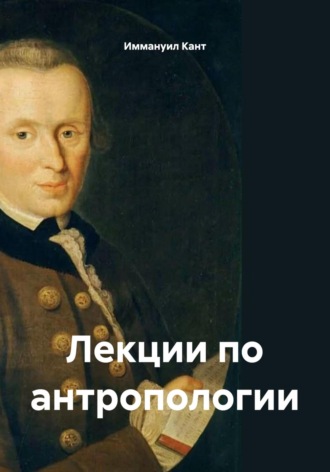
Полная версия
Лекции по антропологии
Но следует заметить, что уважение не обязательно связано с одобрением склонности. Не стоит жаловаться на темноту: если бы в наших идеях было слишком много света, это привело бы к новой путанице. Только благодаря контрасту света и тени мы можем осознавать представления.
Темные идеи обладают в нас большой властью: они часто задают направление мыслям, которое мы не можем изменить даже ясными идеями. Так, например, бывает со страхом смерти, который охватывает даже того, кто видит в краткости жизни главный утешительный аргумент. Разум показывает каждому, что смерть – нечто желательное, но чувственность делает ее царем ужаса. То же самое происходит со страхом, который внушает вид крутого обрыва или других опасностей, несмотря на нашу храбрость.
Таким образом, идеи, следуя законам чувственности, идут прямо наперекор идеям разума. Мы привыкли считать темные представления ощущениями: мы думаем, что «чувствуем» красоту стихотворения или остроумие шутки, хотя на самом деле это просто размышления, не имеющие ничего общего с ощущениями.
Принцип ощущения – чувственность, принцип размышления – разум. То, что должно стать объектом ощущения, должно быть подчинено чувствам, и мы не ощущаем ничего, что не чувственно. Таким образом, так же как красота, гармония и другие идеальные объекты не могут быть ощущаемы, так же не могут быть ощущаемы безобразие, нелепость или неудачные сравнения.
Но если так много из того, что называют «ощущением», на самом деле лишь темные размышления, перед философом открывается обширное поле для работы по их раскрытию. Кажется, что в ущерб мудрости темные представления намеренно называют «ощущениями», чтобы избежать утомительного их анализа: ведь ссылка на ощущение обрывает всякое исследование.
Прежде чем апеллировать к чувству, следует проверить, нельзя ли его разложить на темные размышления. Моды также могут дать философу много материала для размышлений.
Там, где есть ясные представления, человек считает, что уже осознает их. Но есть большая разница между:
1) «Я осознаю представления» и
2) «Я осознаю себя, имеющего эти представления».
Мы обычно называем «ощущением» то, что является суждением в темноте.
Ко всему, к чему мы привыкли, мы перестаем по-настоящему относиться сознательно. Например, я скорее услышу бой городских часов, чем своих комнатных.
Ряд идей и размышлений – это то, что поверхностные умы называют чувством и ощущением. На самом деле они хотят сказать, что не способны раскрыть причины, по которым то или иное действие является неправомерным.
Принципы морали и метафизики уже смутно заложены в нас, и философ лишь проясняет и развивает их. Он словно направляет луч света в тёмный угол нашей души.
Логика запрещает усложнять, но вкус требует этого, поэтому мы вынуждены набрасывать покров на многие вещи.
Существует удовольствие от послевкусия, которое возникает при разрешении чего-то изначально сомнительного, но в итоге проясняющегося.
Склонность к человеку, при которой, видя его, мы замечаем недостатки, но в его отсутствии они исчезают, – неизлечима.
Бывает изложение, подобное музыке, – оно нравится, но ничего не оставляет после себя. Однако изложение, которое сначала затемняет всё, но в конце проясняет, – поучительно, и удовольствие, возникающее из него, подобно послевкусию.
Опыт показывает: чем больше мы думаем о других вещах, тем меньше думаем о себе. При совершенно ясных представлениях мы вообще не думаем о себе – иными словами, чем больше я осознаю предмет, тем меньше осознаю себя в процессе. Состояние, когда человек думает только о вещах, а не о себе, – самое счастливое и особенно полезное для тела.
Бездумность – это состояние смутных представлений, когда человек не думает ни о себе, ни о других вещах ясно; душа при этом может быть очень деятельной. Большинство людей часто пребывает в бездумности, и это состояние весьма полезно. Во время работы мы обычно бездумны – возможно, поэтому труд так благотворен.
Направленное на себя внимание отчасти тяжело, отчасти утомительно; а если оно непроизвольно, то, пожалуй, является величайшим из возможных зол. Это видно на примере ипохондриков: им достаточно подумать о болезни, и они уже ощущают все её симптомы. Врачи должны стараться отвлечь таких пациентов от их состояния, но есть разница между вниманием к своей персоне и вниманием к собственной деятельности. Первое делают ипохондрики, второе – интеллектуальные философы.
Существует тщеславное внимание к себе, когда человек следит за каждым своим жестом, словно ставит себя на место другого, чтобы наблюдать за своими действиями. Такой человек не может не казаться аффектированным и скованным во всём, что делает, что вызывает у окружающих досаду или насмешки. Противоположность этому – наивность, когда человек совершает что-то выдающееся, бросающееся в глаза и доставляющее удовольствие, но при этом не обращает внимания ни на действие, ни на себя.
О глубине человеческого разума.Душа (под которой понимается самодеятельность, поскольку она противостоит телесным впечатлениям) имеет для самого человека непостижимые глубины. На этом основана правомерность заповеди не судить ни себя, ни других.
Кто знает, сколько наших лучших поступков рождаются случайными причинами, следствиями темперамента или игрой судьбы? Лишь немногие происходят из чистой воли. Однако мы склонны обманывать себя, убеждая, что в добрых делах всегда руководствуемся самыми чистыми мотивами.
Если попытаться познать своё внутреннее «я», можно обнаружить многое, во что едва ли поверил бы. Например, легко вообразить, что любишь Бога, но стоит проверить эту любовь – и окажется, что это лишь понимание, что Бог достоин любви. Осознав это, человек уже верит, что испытывает истинную любовь к Нему.
Познание себя – основное правило всех человеческих исследований. Мы всегда склонны одобрять себя по максимуму (а кому ещё охотнее?). Отсюда возникают приятные самообманы: мы убеждаем себя, что обладаем чем-то, хотя на деле имеем лишь знание об этом, а не саму вещь.
О ясности и путанице.Противоположность ясности лучше называть неясностью. Путаница – это отсутствие порядка.
Ясность бывает:
1. Ясность созерцания
2. Ясность понятия
То же и с чёткостью: она относится либо к созерцанию, либо к понятию. Для чёткости созерцания нужна сила впечатления; для ясности – различение многообразия. В понятиях же и ясность, и чёткость зависят от подчинения признаков.
Ясность и чёткость созерцания проявляются в вопросах вкуса, понятий – в спекулятивных вопросах. Мы должны стремиться дополнять понятия созерцаниями, а созерцания – понятиями.
Если исследовать природу наших понятий, окажется, что они состоят лишь в порядке представлений, а именно в их подчинении. Первоначально представления неупорядочены. Логически понятиями можно назвать те представления, которые охватывают множество других и к которым можно добавлять новые.
Голова подобна пустому пространству; его нужно разделить на отделы, чтобы новые представления сразу находили своё место. Поэтому так важно точно классифицировать науки – иначе знания быстро забываются.
Таким образом, понятия – это логические места, упорядочивающие представления под определённые сферы, чтобы их можно было сравнивать между собой.
Свойства познания.В нашем познании можно выделить три отношения:
1. Отношение познания к объекту – логическое
2. Отношение к субъекту – эстетическое
3. Отношение познаний между собой – психологическое
Первое отношение (логическое) определяется истиной и масштабом. В отношении познания к предмету мышления можно выделить:
1. Яркость – выдающуюся ясность (зависит от субъекта, а не объекта).
2. Впечатление: приятное – очарование, сильное – волнение.
3. Доступность – также зависит от субъекта.
4. Интересность: познание становится интересным, если совпадает с кругом наших желаний.
5. Новизна.
Всё это относится к эстетике.
Третье отношение (психологическое): познания либо просто связаны, либо одно порождает другое.
Несовершенства познания.Их два, касающихся качества:
1. Невежество – отсутствие познания (мы не судим вообще).
2. Заблуждение – наличие ложного познания (мы судим ошибочно).
Чтобы помочь невежественным, достаточно одного действия; для исправления заблуждений нужно два. Поэтому уже в юные годы важно предотвращать ошибки. Это принцип Руссо в воспитании.
Обычно же детям набивают голову вздором, а потом требуются геркулесовы усилия, чтобы очистить её. Лучше пусть знают хоть что-то, даже ошибочное, чем ничего.
Чем больше человек делает, тем больше любит жизнь. Все удовольствия воображения, возможно, состоят в том, что они приводят наши силы в действие. В одиночестве мы скорее будем гоняться за фантазиями, чем вообще не думать.
Сочинение, в котором есть гений (пусть и с ошибками), лучше, чем такое, где нет ошибок, но и ничего, кроме банальностей. Тот, кто путешествует с ошибками, всё же путешествовал. Книга первого рода активизирует ум, и в этом состоянии он может открыть новое. Гоббс полезнее Пуфендорфа.
Парадоксальные сочинения противоречат общепринятым мнениям. Все новые работы парадоксальны, если касаются того, о чём раньше утверждали обратное. Они заслуживают наибольшего внимания. Террасон отмечал, что парадоксальные сочинения пишутся для потомков, поскольку опровергают распространённые заблуждения, по которым их судят современники.
О связанных представлениях.Не каждое сопровождение есть связь. То, что часто встречается вместе, мы по воображению считаем связанным. Из сопровождения мы заключаем о связи, а из неё – о сущности вещи.
Нужно различать сопутствующие идеи и саму вещь. Многие суждения людей зависят не от вещей, а от связанных с ними представлений.
О выразительных идеях.
Выражение является выразительным, если оно содержит в себе много смысла. Выражать вещи всегда одним словом и сводить сложные идеи в одно выражение имеет тот недостаток, что это может запутать, но преимущество в том, что это придает сильный акцент. Такой подход не соответствует логическому использованию разума, но вполне соответствует эстетическому.
Контраст между затруднением, из которого человек сам находит выход, и спокойствием, в которое он себя погружает, доставляет наибольшее удовольствие. В стиле изложения должна быть некоторая затемненность, но так, чтобы её можно было мгновенно разрешить – это приятнее и является истинным остроумием. Тот же, кто пишет слишком плоско, вызывает раздражение, поскольку предполагает у читателя слишком мало проницательности.
Афоризмы особенно хороши в этом отношении, и обучение детей через афоризмы было бы весьма полезно.
О низших и высших силах души.Человек ценит себя выше, когда он активен, чем когда пассивен, даже если пассивное состояние часто бывает приятным и он охотно ему предается. Однако пассивное состояние всё же считается более низким и менее значительным, чем активное.
Всегда человек считается более возвышенным, когда он сам является источником своего состояния в деятельности, чем когда всё вокруг служит ему, ухаживает и развлекает. Последнее состояние может казаться приятнее, но оно гораздо менее благородно, чем первое.
Человек соотносит предназначение своего состояния с определенными способностями и силами в себе, как с причинами этого состояния.
Человек обладает:
1. Рецептивностью, или способностью воспринимать – то есть чувственными представлениями, ощущением удовольствия и неудовольствия, а также желаниями. Это относится к низшей способности.
2. Свободной волей – возможностью самому определять своё состояние и самостоятельно вызывать в себе представления. Это относится к высшей способности души.
Кроме того, у нас есть сила, которая приводит в движение все акты, управляя как низшими, так и высшими способностями. Это и есть свободная воля.
Пассивное состояние часто бывает нам приятно, но именно свободная способность по желанию предаваться как пассивному, так и активному состоянию ценится как величайшее счастье. Никакое счастье в мире не может возместить утрату свободы распоряжаться своим состоянием по своему усмотрению.
Человек может предаваться пассивности, но он всегда знает и хочет сохранить свободу воли, чтобы по желанию выбирать даже пассивное состояние.
Мы можем быть довольны, даже если в голове мучительные мысли, но только если они возникли по нашей воле. Если же представления появляются непроизвольно, это подобно мучению от фурий.
Власть свободной воли произвольно упражнять или удерживать все прочие акты наших способностей – вот в чём заключается величайшее счастье в мире. Даже если на меня обрушится величайшее зло, но я смогу абстрагироваться от своих представлений, изгнать их по желанию и вызвать другие – я буду неуязвим и непобедим.
Высшее господство души, которое никто не согласится утратить, – это господство свободной воли.
Ни один человек, даже в самом жалком состоянии, не захочет, чтобы другой делал его счастливым по своему усмотрению. Каждый раскаивается, когда поддался мнению или склонности, например, вспышке гнева. Поэтому никто не любит страсти: в их угаре кажется, что действуешь совершенно свободно, но потом с горечью понимаешь, что был ослеплён и подчинён их власти вопреки своей воле.
Каждый предпочтёт быть игрушкой страстей, чем рабом, подчинённым воле другого. Но на самом деле подчинение страсти гораздо хуже, чем подчинение воле другого.
Свобода – истинное величие человека.Основа, на которой покоится присущность (inhaerentia) определённого состояния, – это способность. Основа, на которой покоится порождение состояния, – это сила.
Способность бывает:
– низшая (чувственность)
– высшая (разум)
Обе эти способности являются основаниями присущности определённых состояний (актов) в нас. Но у нас есть и сила, содержащая основание порождения определённых актов в нас – это свободная воля.
Например, то, что фантазии могут возникать во мне, зависит от чувственности, но то, что я сам вызываю их в себе, зависит от воли. Чувственность – это способность, благодаря которой фантазии могут мне присущи, а воля – это сила, которая действительно вызывает фантазии, которые могут быть присущи мне благодаря чувственности.
Человек способен противопоставить один акт другому и определять своё состояние по свободному желанию – как состояние представлений, так и состояние желаний.
Животные имеют почти такую же власть над предметами, как и мы, но определение их состояния от них не зависит.
Предметы искусства и мастера искусств ценятся выше, чем произведения природы и простые земледельцы. Тот, кто управляет, ценится выше, чем тот, кто кормит, хотя первый предполагает второго как необходимое условие. Это происходит потому, что люди всегда ценят форму выше материала.
Точно так же люди высоко ценят разум, презирая чувственность, которая, однако, поставляет разуму весь материал и без которой разум оставался бы бездейственным.
О чувственности.Это способность воспринимать воздействие внешних вещей. Все представления, которые дают нам чувства, возникают в нас только благодаря присутствию объектов, воздействующих на органы чувств.
Чувственные представления отличаются от рассудочных по своему происхождению, а не только по форме, как обычно думают (например, Мендельсон). Ясность или неясность не определяют, принадлежит ли представление рассудку или чувственности, – это определяет его источник.
Чувственные представления могут быть очень ясными, а рассудочные – совершенно смутными. То, что ясно в понятии, может быть крайне неясным и запутанным в созерцании.
Как медная монета не становится золотой медалью от самого красивого чекана, так и чувственное представление, как бы его ни обрабатывали и ни украшали, не становится рассудочным.
Сознание – это сила, а не представление. Оно не порождает представлений, а только освещает их и относится к высшим силам.
Чувственные представления остаются чувственными, даже если мы их осознаём, а интеллектуальные – интеллектуальными, даже если кажется обратное. Сознание не следует смешивать ни с одной из этих способностей.
Итак, мы видим, что чувственность сама по себе – не зло. Злом была бы путаница, но чувственность не запутывает. Тот, кто пользуется только чувствами, лишён обработки представлений разумом, без которой невозможны понятность и порядок. Но если чего-то не хватает, это ещё не зло, а просто недостаток.
Если бы мы были творцами мира, нам не нужны были бы чувства. Но поскольку мы его обитатели, мы не можем черпать знание о внешних вещах из самих себя – для этого нам нужно способность, благодаря которой объекты могут воздействовать на нас и посылать нам внешние представления. И это способность – чувственность.
Люди склонны принижать чувственность, потому что чувственные желания ограничивают нашу свободу, а всё, что её ограничивает, мы считаем унизительным.
Однако что касается чувственной формы познания, то она часто предпочтительнее интеллектуальной из-за своей наглядности, ведь созерцание – самое совершенное познание.
Если мы хотим перевести дискурсивные познания разума в созерцание, мы должны, как это делают моралисты, показывать общие положения разума в конкретных случаях.
Помимо того, что порок отвратителен, в нём есть ещё нечто смешное и нелепое. Я бы хотел, чтобы вместо грома и проклятий в адрес порока, чаще показывали его нелепость. Лучше видеть порок в шутовском колпаке, чем на дыбе фурий.
Человек больше всего боится презрения и скорее согласится быть проклятым, чем осмеянным.
То же и с добродетелью: её следует показывать не в возвышенном и внушающем благоговение виде, а в том привлекательном свете, в котором она очаровывает. Ведь всё, к чему нас призывают относиться с почтением, становится для нас в тягость.
Мы чувствуем себя лучше среди добрых друзей, чем среди высокопоставленных особ.
У одних людей преобладает чувственность, у других – разум.
Лучший образ мыслей – когда сначала познают вещи чисто разумом (особенно в морали), а затем подтверждают их чувственными примерами.
Весь смысл изящных искусств в том, что они ярко представляют и поддерживают моральные принципы разума. Зульцер хорошо это показывает.
Но важно не начинать с чувственности и не выводить общие положения через абстракцию, а начинать с разума, где положения судятся и определяются чисто, а затем иллюстрировать их чувственными примерами.
О негативных методах.Некоторые методы мы называем негативными, когда не создаём ничего нового для нашей цели, а лишь устраняем препятствие, мешающее её достижению.
Таков, например, план воспитания Руссо: он не столько стремится вооружить юношу знаниями, сколько предотвратить укоренение дурных привычек и заблуждений.
Действия рассудка можно рассматривать:
1. Как то, посредством чего мы порождаем в себе познания.
2. Как то, посредством чего мы предотвращаем заблуждения.
Отрицательная часть наших усилий является важнейшей. Отрицательное в воспитании – это когда предотвращают, чтобы молодому человеку не прививали дурного; положительное – когда в нём порождают познания.
Бернулли показывает, что всегда проигрываешь, если участвуешь в игре, где ставки значительны по сравнению с твоим состоянием. Ибо теряешь всегда из малой его части, а выигрываешь – к большой.
Отрицательные суждения должны предотвращать заблуждения, а отрицательные законы – поступки.
Тот, кто может легко удовлетворять многие потребности, положительно богат; кто способен многое обходиться без – отрицательно богат.
Отрицательные учения – самые трудные и находят наименьшее число любителей.
Некоторые люди устроены так, что они лишь отрицательно хороши, то есть в них нет ничего дурного. Им недостаёт хитрости, чтобы идти окольными путями обмана. Честность следует прямым и верным путём, потому её часто соединяют с глупостью. Таким образом, существует отрицательная честность – когда человек не обманывает. Она может быть присуща даже простаку, но честный человек из принципов – лишь умный человек.
Есть и отрицательная гордость, когда человек не позволяет себя презирать и отвергает мнимые притязания надменного выставлять своё превосходство.
Отрицательные познания, когда мы узнаём, чем вещь не является, чтобы исправить заблуждения, – всегда приносят огромную пользу.
Отрицательное действие – всё же действие, но оно ничего не созидает, а лишь устраняет препятствия или противодействует неправильному поступку, чтобы его не совершить.
Первый шаг к мудрости – быть свободным от глупости. Весь мир полон глупости. Величайший человек преследует в мире игру и шутки – это стихия людей. Можно ли из человека сделать мудреца? Довольно, если он отрицательно мудр и отрицательно хорош.
Человек, который никогда не подал ближнему чаши холодной воды, но и никогда не лгал, чужую собственность избегал, как раскалённого железа, никого не обманывал, – уже почти праведник и бесконечно ценнее, чем тот, у кого мягкое, доброе сердце, но кто снисходителен к высшим обязанностям права и к себе самому.
Странно, однако, что люди не ценят отрицательно хороших поступков. Это происходит оттого, что человек всегда хочет быть деятельным; я полагаю, что стремление к деятельности – основа всякого удовольствия. Поскольку отрицательные действия ограничивают нашу активность, возможно, поэтому они не так любимы. Это же, вероятно, причина, почему в обществе возражения и противоречия неприятны, как и науки, лишь опровергающие заблуждения.
Лёгкость и трудность познания.Мы хорошо знаем границы нашей познавательной способности. То, что при сравнении с ней оставляет избыток познания, я называю лёгким. Где познание превосходит нашу способность, там оно трудное. Что для большинства трудно, то называют трудным само по себе.
Величайшая лёгкость – когда можно представить научные вещи в простом свете. Кажется, французам эта способность дана более других, и Фонтенель в этом мастер.
Если другому что-то даётся с трудом, это вызывает во мне тревогу и усилие. Видя, как кто-то тащит тяжесть, я чувствую тягость. Даже на пиру, если там суета и приготовления, мне это неприятно. Чтобы общество было приятным, слуги должны делать всё как бы незаметно.
Ныне стремятся всё упростить, но неверно – ибо опускают трудное.
Есть разные характеры: одни прежде всего замечают трудности, другие – лишь лёгкое. Первый характер мизантропичен, ибо, встречая препятствия в каждом благом деле, он редко решается действовать. Второй обещает больше, чем может выполнить.
У каждого есть манера сначала смотреть на вещи определённым образом. Поэтому начинающим важно строго указывать на трудности науки. Какой вред нанёс Геллерт, внушив публике, особенно женщинам, что они могут судить о основаниях морали!
Часто, особенно в важных науках, нужно перечислять все трудности, чтобы неспособные почувствовали свою ограниченность. Но гении именно из-за трудностей полюбят науку.
Шутка и смех – стихия людей. Басня о тщеславных матерях-зверях могла бы быть аллегорией человечества.
О внимании и абстракции.Мы можем направлять мысли на объект или отвлекаться. Это бывает произвольно и непроизвольно. Например, в обществе, где нужно вести себя чинно, мы не можем отвлечься от того, что нас смешит. Чем больше стараемся сдержаться, тем труднее.
Неполнота всегда раздражает: мы замечаем, если, скажем, отломана пуговица у кресла.
Власть духа – в умении останавливать поток представлений и не позволять чувственности увлекать.
Рассеяние полезно: дух отдыхает, меняя мысли и задействуя все силы. Внимание не застревает на одной точке. Ипохондрик вредит себе, постоянно сосредотачиваясь на одном.
Преимущество человека – в возможности подчинить все способности своей воле. Человек часто бывает счастлив или несчастлив оттого, что слишком много или мало абстрагируется.
Естественна, например, абстракция от смерти. Люди часто слишком абстрагируются от последствий своих поступков; без этой способности их удовольствия были бы ограничены. Таких называют легкомысленными.
Длительное внимание утомляет. Ум, как и тело, где каждый мускул имеет антагониста: если один устаёт, другой работает. Даже тончайшие чувства утомляются от постоянного напряжения.
Абстракция, хотя и лишь устраняет мысли, – истинное действие, порой труднее внимания. Особенно когда отвлекаешься от чувственных объектов или связанных представлений (например, отделяя добродетель от её атрибутов).
Эмпирики слишком мало абстрагируются, спекулятивные умы – слишком много. Поэтому учения последних часто бесполезны (например, размышления о морали без изучения человечества).
Люди вредят себе, абстрагируясь слишком много или мало. В аффекте человек отвлекается от всех склонностей, кроме одной. В несчастье – слишком много, игнорируя остающееся добро.









