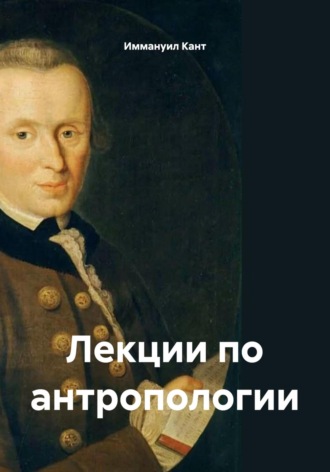
Полная версия
Лекции по антропологии
– Kant, I. Briefwechsel.
– Kraus, C. J. Brief an Christian Gottfried Schütz (1788).
– Kant, I. Autobiographische Notiz (1797).
2. Датировка текстов изданий.
После рассмотренных методологических предварительных замечаний можно перейти к датировке текстов, включенных в издание. Если рассматривать рукописи в рамках одной группы (в данном случае – антропологических лекций) как единое целое, задача значительно упрощается.
Группы A и B: 1772/1773.
Датировка первых двух текстов (Коллинз и Паров), которые, согласно филологическим данным, не могли возникнуть полностью независимо друг от друга, относительно проста. Во-первых, они не могли быть созданы раньше зимы 1772/1773 гг. Во-вторых, сохранившаяся рукопись Филиппи, а также известные сведения о его обучении в Кёнигсберге подтверждают, что его автограф был написан не позднее зимы 1773/1774 гг.
Анализ литературных источников, упомянутых в этих текстах, не дает оснований предполагать, что они были созданы позже указанного периода. Например, ссылка на работу Шарля Бонне (№ 007) встречается только у Филиппи, но остальные характерные черты присутствуют и у Парова. Если же обратиться к источникам, упомянутым исключительно у Парова, это не меняет общей картины.
Особый интерес для датировки представляют упоминания литературы, вышедшей после 1770 года. Наиболее поздние ссылки (например, у Коллинза № 206 и у Парова № 207) относятся к концу семестра, что подтверждает датировку зимой 1772/1773 гг.
Группа C: 1775/1776.
Для датировки группы C ключевое значение имеет личность студента, который, вероятно, был слушателем или переписчиком этих лекций. Хотя рукопись Карла Фердинанда Николаи считается утраченной с 1945 года, более ранние исследования указывают на то, что его текст является самым ранним представителем группы записей, относящихся к зиме 1775/1776 гг.
Согласно университетским записям, Николаи поступил на теологический факультет в 1770 году. В списках теологического факультета он упоминается в 1774, 1776–1779 гг. Летом 1778 года указано, что он ранее посещал у Канта лекции по метафизике и антропологии, а в тот момент слушал логику.
Николаи также подписался на частный курс Канта по «всеобщей практической философии и этике» зимой 1773/1774 гг. и, судя по отметкам, оплатил его. Он владел немецким и польским языками и, возможно, был членом «Королевского немецкого общества». Его необычно долгое обучение (не менее семи лет) позволяет предположить, что он был выдающимся студентом.
После окончания университета Николаи сделал успешную карьеру в сфере образования. В 1796 году он стал ректором Кнайпхофской гимназии (Домской школы), что свидетельствует о его высоком авторитете. Умер он в Кёнигсберге в 1802 году.
Что касается датировки текстов группы C, то terminus ad quem определяется по датировкам рукописи Николаи. Упоминания литературы и событий после 1772 года подтверждают, что лекции были прочитаны зимой 1775/1776 гг. Кроме того, ссылки на «Физиогномические фрагменты» Лафатера указывают только на первые два тома (1774–1775), но не на более поздние издания (1778).
Содержательные отличия этой группы от предыдущих включают:
1. В «Прологе» (Ms 399/400, стр. 3–15) представлена параллельная структура курсов по «Физической географии» и «Антропологии», аналогичная программному сочинению Канта.
2. Впервые встречается характерная для Канта триада: «рассудок, способность суждения, разум».
3. Только в этой группе завершающий раздел посвящен «воспитанию» (Ms 399/400, стр. 761/823 и далее).
Группа D: 1777/1778.
Для датировки анонимной Пиллауской рукописи нет биографических или архивных данных, поэтому основными критериями являются ссылки на литературу после 1775/1776 гг. Четыре источника относятся к 1777 году (Абреу де Галиндо, Байи, Робертсон и Верри), также есть цитаты из Гауба (1776) и третьего тома «Фрагментов» Лафатера (1777/1778).
Среди содержательных новшеств:
– Введение понятия «витального чувства» (стр. 12–15).
– Впервые используется противопоставление «образ мыслей – образ чувств» (стр. 117).
– На стр. 56 встречается определение «несовершеннолетия» как «неспособности пользоваться своим рассудком без руководства других», что предвосхищает формулировку из статьи «Что такое Просвещение?» (1784).
Группа E: 1781/1782 (?).
Датировка группы E, наиболее известным представителем которой является «Меншенкунде» (1831), неоднократно обсуждалась в литературе. Согласно дневниковым записям Кристиана Фридриха Путлиха, он переписал текст антропологии зимой 1784/1785 гг. с рукописи своего друга К. Вебера, который, в свою очередь, слушал лекции зимой 1782/1783 гг.
Среди источников нет ссылок на работы позже 1781 года, что позволяет предположить, что оригинальный текст относится к зиме 1781/1782 гг. – первому курсу антропологии после выхода «Критики чистого разума». Возможно, ожидание интереса студентов к новой книге побудило Канта к более подробному изложению.
Отличительные черты группы E:
– Отсутствие ссылок на Лафатера.
– В разделе «Характер человеческого рода» (стр. 365 и далее) ключевым термином становится «космополитический», что перекликается с идеей «всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784).
– Впервые появляется отдельный раздел о «расах человечества» (хотя сам Кант отмечает, что эта тема скорее относится к физической географии).
Группа F: 1784/1785.
Рукопись Кристофа Целестина Мронговиуса (зачислен в университет в 1782 г.) датируется зимой 1784/1785 гг., так как содержит ссылки на публикации 1785 года. Некоторые пояснения предполагают знакомство с работами не ранее 1782 года. Заключительные разделы лекции близки к статье Канта «Предполагаемое начало человеческой истории» (рукопись завершена в ноябре 1785 г.).
Группа G: 1788/1789 (?).
Рукопись Готхильфа Кристофа Вильгельма Бусольта (зачислен в 1788 г.) почти не содержит данных для точной датировки. Предполагаемый семестр 1788/1789 остается гипотетическим. Фрагментарность текста (обрывается на стр. 145) не позволяет детально проанализировать его структуру. Однако впервые здесь вторая часть лекции названа «методологией» (стр. 143).
Лекция зимнего семестра 1772/73 гг.
по записям:
Коллинза
Пролегомены.Наука о человеке (антропология) имеет сходство с физиологией внешних чувств в том отношении, что в обеих основания познания берутся из наблюдения и опыта. Ничто, казалось бы, не может быть более интересным для человека, чем эта наука, и тем не менее ни одна не была так пренебрегаема, как именно она. Виной этому, вероятно, является трудность проведения подобных наблюдений, а также странная иллюзия, когда человек полагает, что знает то, с чем привык иметь дело. Из-за этого во многих науках важные аспекты исследования ускользали, потому что их не считали достойными внимания. Ещё одной причиной может быть то, что люди не ожидают найти в этом ничего приятного, если предпримут трудное «ныряние в преисподнюю» для познания самих себя.
Но почему же из обилия наблюдений английских авторов не была создана связная наука о человеке? Это, видимо, происходит оттого, что науку о человеке рассматривали как придаток к метафизике и потому уделяли ей лишь столько внимания, сколько позволяли более крупные разделы метафизики. Эта ошибка, возможно, возникла из заблуждения: поскольку в метафизике всё должно выводиться из неё самой, то все её части рассматривались как следствия учения о душе. Но метафизика не имеет ничего общего с эмпирическим познанием. Эмпирическая психология так же мало принадлежит метафизике, как и эмпирическая физика.
Если же мы будем рассматривать познание человека как особую науку, то из этого проистечет множество преимуществ:
1) Не нужно изучать всю метафизику из любви к ней.
2) Прежде чем наука достигнет порядка и регулярности в изложении, её следует разрабатывать исключительно в академиях; это единственный способ возвести науку на определённую высоту. Но это невозможно, если наука не отделена чётко. В уме не удерживается ничего из книг, для чего нет как бы «ячеек». Поэтому систематизация – самое прекрасное в науке. Если у нас есть такое понимание природы человека, то из романов, газет, всех сочинений и общения мы сможем собирать бесценные размышления и наблюдения.
Мы будем рассматривать человеческую душу во всех состояниях: здоровом и больном, смятенном и грубом, установим первые принципы вкуса и суждения о прекрасном, принципы патологии, чувствительности и склонностей. Мы укажем на различия возрастов и особенно полов в их характерах и попытаемся вывести их из их источников. Из этого можно будет заключить, что в человеке естественно, а что искусственно или приобретено. Самым трудным и нашей главной целью будет отличать человека, поскольку он естествен, от человека, преобразованного воспитанием и другими влияниями, рассматривать душу отдельно от тела и через наблюдения пытаться выяснить, требуется ли влияние тела для мышления. Если опыт покажет нам обратное, то простое умозаключение из опытов даст нам надёжнейшее основание для доказательства бессмертия души.
Умение правильно применять науки – это знание света (мирская мудрость). Это знание состоит в познании человека, в том, как мы можем быть ему приятны и т. д. Таким образом, мирская мудрость предотвращает превращение учёности в педантизм. Знание примечательных явлений природы также причисляется к мирской мудрости. Таким образом, физическая география и антропология составляют знание света.
Познание субъекта – основа всего познания. Из-за недостатка этого многие практические науки остались бесплодными, например, моральная философия. Сочинения Шпальдинга настолько связаны с человеческой природой, что их невозможно читать без удовольствия. Но большинству моральных философов и духовных лиц не хватает этого знания человеческой природы.
Если мы обладаем такими навыками, которые имеют, так сказать, подвижное применение, это очень ценно. Ибо хотя польза от них каждый раз мала, но, умножаясь, она становится значительной.
Беседы о человеческой природе кажутся самыми приятными в общении, ибо тема в обществе должна быть такой, чтобы каждый мог высказать о ней своё суждение.
Дух наблюдения делает снисходительным и мягким.
Мы будем рассматривать человека не только по его скрытым свойствам, служащим лишь для умозрения, но прежде всего по его практическим качествам.
Переход от телесного движения к духовному далее необъясним, «следовательно, Бонне и многие другие сильно заблуждаются, когда полагают, что могут с уверенностью заключать от мозга к душе».
Первая мысль, которая приходит нам в голову, когда мы рассматриваем себя, выражает «Я»; она выражает созерцание себя самого. Мы хотим разобрать «Я»: все доказательства, приводимые в пользу простоты души, суть не что иное, как анализы «Я». В словечке «Я» содержится не просто созерцание себя, но и простота нашего «я», ибо это совершеннейший единственный (singularis). Оно также выражает мою субстанциальность, ибо я отличаю «Я» как последний субъект, который уже не может быть предицирован ничем другим, но сам является субъектом всех предикатов. Это словечко также выражает разумную субстанцию, ибо «Я» означает, что человек делает себя самого предметом своих мыслей с сознанием. В нём также заключена личность. Каждый человек, каждое существо, которое делает себя предметом своих мыслей, не может рассматривать себя как часть мира, заполняющую пустоту творения, но как член творения, его средоточие и цель.
"Я" есть основание рассудка и разума, и всей высшей познавательной способности, ибо все эти способности основываются на том, что я наблюдаю и созерцаю самого себя и то, что во мне происходит. Трудно сделать самого себя предметом мыслей, потому так часто это упускают. В словечке "Я" находят даже понятие свободы, сознание самодеятельности; ибо "Я" не есть внешняя вещь. Из этого анализа "Я" мы видим, что то, что многие философы выдают за глубокомысленные умозаключения, есть не что иное, как непосредственные созерцания нашего "Я".
Всякое существо, которое может сказать "Я" и таким образом сделать самого себя предметом своего рассмотрения, имеет непосредственную ценность; все прочие имеют лишь опосредованную ценность. Внимание и созерцание самого себя, должно быть, нелегки, поэтому дети до 3-х лет вовсе не достигают этого понятия о себе; но как только они приходят к этой мысли, тогда, кажется, и наступает точка развития их способностей.
Автор предоставляет и читателю право суждения, когда говорит во множественном числе, поэтому слово "мы" скромно. Кто, подобно Монтеню, проникает во внутренние пружины [действий], тот почти не может не говорить в единственном числе; потому Паскаль и Мальбранш напрасно его упрекают.
Личность делает возможным, чтобы что-то мне внушалось, а личность возникает из мысли "Я". Из соединения нескольких одновременных идей в одну единственную выводится существование нашего простого, неделимого "Я".
К несчастью, требуется, чтобы мы сознавали свое состояние, поэтому существо, которое не может сказать "Я", хотя и может испытывать многие страдания, но оттого не является несчастным. Только благодаря "Я" мы способны к счастью и несчастью. Все доказательство в философии, что душа есть простая субстанция, основывается на "Я", потому что оно есть совершеннейший сингулярис.
Логический эгоизм состоит в том, что все суждения других относительно решения истинного и ложного считаются излишними.
"Постоянно испытывая ощущения – непосредственно или через память – как могу я знать, что чувство "Я" есть нечто вне этих самых ощущений и может ли оно быть независимым от них?" Руссо. Тождество "Я" продолжается лишь памятью.
В разговорах, когда часто говорят о себе, даже когда себя порицают, становятся неприятны обществу; ибо каждый человек смотрит на себя как на главную часть творения и не хочет становиться на точку зрения отдельных лиц, разве только если это не будет какое-нибудь важное происшествие. Люди предпочитают смотреть на мир вообще с безразличной точки зрения. Размышления очень приятны; привыкнув спокойно размышлять, ко всему в мире станешь относиться хорошо. Лейбниц осторожно сажал наблюдаемых червячков обратно на лист, и каждый любит то, что дает ему повод к размышлениям. Это причина, почему Монтень так нравится. Если в обществе говорить о своих целях, усилиях и личных обстоятельствах – это способ привести слушателей в замешательство и заставить молчать; но если шутить над своими собственными делами, общество охотно слушает, и при этом не нужно жертвовать своим достоинством. Здесь нельзя дать правил, каждый так жадно держится за свое "Я", что не любит слышать о "Я" других.
Через десять лет тело состоит из другой материи, как река течет другой водой, но "Я" неизменно, и это "Я" неделимо. Если бы все мои члены были отделены от тела, и я мог бы только еще сказать "Я", я все еще не сознавал бы никакого уменьшения. Каждый человек имеет в себе как бы двойную личность: "Я" как душу и "Я" как человека.
Истинное "Я" есть нечто субстанциальное, простое и постоянное; напротив, "Я" как человек считается изменчивым; говорят, например: "я был велик", "я был мал". "Я" не изменилось бы, даже если бы было в другом теле.
В отношении тела человек мало отличается от животных, и готтентот так близок к орангутану, что, судя по одной внешности, глядя на его ловкость, становишься в тупик. Если отнять у человека разум, то возникает вопрос, каким бы животным был человек? Он, конечно, не был бы последним, но его животность, поскольку она умеряется человеческой душой, трудно распознать; кто знает, какую животность смешала Божество с разумом, чтобы создать человека. Стоики хотели совершенно отделить животность от человеческой души; тело они рассматривали не как часть "Я", а как нечто нам принадлежащее, от близости с чем мы должны уклоняться; оно подобно раковине улитки, лишь наше жилище, и оно само, равно как и его изменения, принадлежат к нашему случайному состоянию. Эпикур же утверждал, что нет иных существ, кроме предметов, поражающих чувства; что касается тела, то оно касается только нашего "Я". "Я есмь" – это созерцание, а не умозаключение, как полагал Декарт. Но "мое тело есть" – это лишь явление. Во мне, собственно, нет ничего, кроме представления о самом себе, я только созерцаю себя. Поскольку во мне есть изменения, соответствующие предметам, они называются явлениями. У нас нет в целом мире иного созерцания, кроме созерцания самих себя; все остальное – явления. "Я" есть чистая душа, тело – оболочка. Нет человека, который не хотел бы поменяться с другим – лицом, всем телом, даже свойствами души: но решиться поменяться всем своим "Я" никто не может; это само по себе противоречие: поэтому, собственно, это вовсе не темно.
Мы находим в нашей душе как бы две стороны: одну, по которой она страдательна, и другую, по которой она деятельна. По первой я есть игра всех впечатлений, которые природа на меня производит, по второй я есть свободное самодеятельное начало. Человек познает себя тем ниже, чем более он страдателен и связан в отношении самодеятельности.
Если человек в своем внешнем поведении не проявляет признаков внутреннего достоинства, мы презираем его; напротив, если он проявляет их, мы говорим, что он обладает благопристойностью. Однако он также должен демонстрировать, что признает достоинство других, что называют скромностью.
Возникает вопрос: где следует искать источник зол в человеке? И мы видим его в животной природе человека. У некоторых людей влечения настолько сильны, что разуму трудно их обуздать. И различие между людьми, кажется, основано больше на их животной природе, чем на духовной.
Человек стремится стать как можно более разумным и ведет себя так, будто полностью пренебрегает своей животной природой.
У нас есть способности, возможности и силы.
Способность – это свойство души изменяться под воздействием внешних впечатлений. Мы можем обладать большими возможностями, но при этом малой силой. Таким образом, силы – это источники действий, а возможность – достаточность для определенных поступков. Что именно должно добавиться к возможностям, чтобы они стали действующими силами, не так легко понять.
Способность изменяться или страдать называют низшей силой души, а способность действовать самостоятельно – высшей силой. Поскольку душа способна воспринимать впечатления, которые испытывает тело, она называется anima; поскольку она способна действовать самостоятельно, она называется mens. А поскольку она объединяет оба этих качества и первая способность подчинена управлению второй, она называется animus – anima означает «душа», animus – «дух», mens – «ум». Это не три разные субстанции, а три способа, которыми мы ощущаем себя живыми. В первом случае мы пассивны, во втором – хотя и пассивны, но одновременно реагируем, в третьем – полностью активны.
Приятные и печальные ощущения можно разделить на:
1) Чувство удовольствия и
2) Радость от этого чувства удовольствия.
Точно так же можно различить болезненные ощущения:
1) Саму боль или печаль и
2) Болезненные переживания по поводу этой печали.
Стоики понимали под мудрецом человека, который никогда не несчастен, который хотя и чувствует всю боль в душе, но не позволяет ей проникнуть в дух, а отражает ее. Человек может испытывать в душе самые мучительные боли и при этом сохранять радостный и спокойный дух. Дух также называют сердцем, и он граничит с высшими силами человеческой души. Хороший дух – это правильное соотношение между ощущениями (или склонностями) и реакцией разума. У Сократа был дурной дух, но его разумные принципы подавляли чувственность и восстанавливали правильное соотношение между ней и разумом.
Таким образом, помимо удовольствия и неудовольствия в душе и духе, есть еще удовольствие и неудовольствие в уме – это одобрение своих хороших поступков или осуждение дурных. Душа может быть погружена в боль, а в уме царить ясность, и наоборот: в уме может быть мрак, тогда как в душе и духе играют радости.
Душевные болезни – самые сильные. Печаль хуже боли – это неудовольствие всем своим состоянием. Неудовлетворенность собственной личностью – это духовная печаль, худшая из всех. Удивительно, что удовольствия становятся тем настойчивее и сильнее, чем тоньше и дальше они отстоят от чувственности.
То, что поднимается до уровня ума в виде удовольствия или неудовольствия, возвращается в дух с удвоенной силой. Поэтому самые отчаянные поступки рождаются из самоосуждения, а самые возвышенные – из самоодобрения.
Иногда говорят: люди, общества или речи «полны духа», то есть движущей силы. Духом мы называем то, что содержит истинную движущую силу, например, spiritus в жидкостях. Мы всегда стремимся к тому, что приводит наш дух в движение. Видно, что дух в человеке – это то же, что жизнь или первооснова жизни.
Большая часть печали происходит от того, что человек придает жизни слишком большое значение. Мудрец считает все в мире, включая свою жизнь, неважным. Это помогает ему преодолевать и отражать сильные чувственные впечатления.
Что касается духа, замечу, что он обычно является объектом любви. Хороший дух, даже если он поддается дурным излишествам, все равно вызывает любовь. Бывают aimables debauches – симпатичные распутники. Таким людям доверяют полностью и любят их больше, чем тех, кто поступает хорошо из принципа. В практическом смысле дух обычно называют сердцем.
Что касается ума, то никогда не говорят: «у человека дурной ум», потому что ум не подвержен склонностям. Поскольку он судит обо всем исключительно по разуму, а не по чувственности, он судит о хорошем и является принципом этого суждения, поэтому от него не может исходить ничего дурного – от него исходит только хорошее, а дурное – от духа.
Если же обратиться к обыденным представлениям людей, особенно дикарей, слово «дух» означает то, что оживляет инертную материю во всей природе. Так, у химиков есть spiritus rectores (управляющие духи) и т. д.
Отношение «Я» к миру.Ум, поскольку он соединен с телом, называется душой. Таким образом, я как ум, познающий мир не просто как мыслящий дух, но посредством тела, являюсь душой и воспринимаю мир pro situ corporis – в зависимости от положения тела.
Как житель маленького аркадского острова, попав на земли графа, которому принадлежал этот остров, пал перед ним на колени и провозгласил графа владыкой мира. Но я воспринимаю мир не только pro situ corporis, но и в зависимости от состояния тела и его органов.
Удивительно, что даже при самом напряженном усилии воображения мы не можем представить себе форму, более подходящую для мыслящих существ, чем та, которую имеем сейчас. Это видно, например, из «Потерянного рая» Мильтона. Человеческий облик – это первообраз красоты.
О силе представления.Замечательно, что некоторые представления возникают в нас с сознанием, а другие – без него. Музыкант, импровизируя, не осознает множества сложных представлений и размышлений, которые ему приходится делать. Темные действия нашей познавательной силы составляют большую часть состояния души. Лишь малая часть познаний освещена сознанием.
Сознание подобно свету, который освещает определенное место в нашем познании: оно не создает это место, не создает познание, а лишь проливает свет на уже существующие в нас размышления. Многие сложные науки служат лишь для того, чтобы прояснить темный запас представлений души, а не создать его. Так, вся мораль – это лишь анализ запаса понятий и размышлений, которые человек уже имеет в темноте. Я не учу здесь ничему новому, и самые тонкие размышления возникают в нас бессознательно.
В темных представлениях разум наиболее деятелен, и все ясные представления – по большей части результат долгих темных размышлений. Гомер в своих принципах критики особенно преуспел в том, чтобы выявить то, что предшествует определенным суждениям людей или внешним проявлениям, например, смеху. Философ, изучающий человеческую природу, в этом случае подобен естествоиспытателю: он стремится выявить и показать силы, действующие в темноте, исходя из явлений внутреннего или внешнего чувства.
Например, наблюдения показывают, что родители особенно любят детей противоположного пола. Среди сыновей те, кто обладает спокойным и уравновешенным характером, пользуются особой благосклонностью отца, а те, кто живого или даже буйного нрава, – любимцы матери. В чем причина? Какие размышления вызывают это?
Одна причина – вечно действующий природный инстинкт. Другая (по которой мать любит сына) в том, что она, помня о слабости и подчиненности своего пола, смотрит на сына как на будущего защитника и опору, и в этом отношении она больше всего ожидает от живого и энергичного нрава.
Также замечают, что когда богач входит в комнату (допустим, мы его совсем не знаем, и он попал к нам по ошибке), он сразу вызывает в нас уважение. И наоборот: трудно удержаться от раздражения, когда слышишь, как бедняк говорит громко и надменно. Это происходит потому, что мы ценим возможности и талант выше, чем их хорошее использование: если у человека есть возможности – будь то деньги или умения, – мы думаем, что хорошее применение – дело простое, ведь у каждого есть свободная воля.









