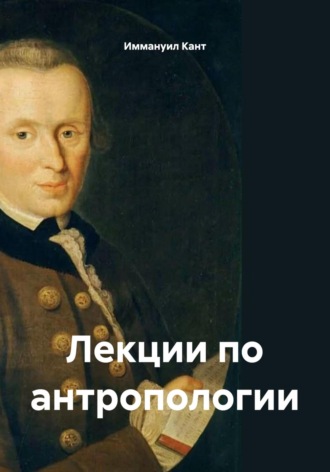
Полная версия
Лекции по антропологии
– Переплёт: Подавляющее большинство сохранилось в виде картонных обложек эпохи. Реже встречаются полукожаные переплёты, а отдельные листы вообще не представлены.
– Формат: Все рукописи выполнены в кварто (листы сложены вдвое). Обычно перед сгибанием четыре листа складывались вместе, образуя тетради по 16 страниц. Часто тетради помечались латинскими буквами в верхнем или нижнем углу первой страницы.
– Пагинация: В большинстве случаев текст сразу нумеровался; лишь изредка позднее добавлялась фолиация (нумерация листов).
– Кустоды (метки перехода): Часто использовались для обозначения продолжения текста на следующей странице или в новой тетради.
– Чернила: Текст всегда записан чернилами, сейчас выглядящими как оттенки коричневого и чёрного.
– Сокращения: Крайне редко встречаются стенографические обозначения или сиглы, несколько чаще – обычные сокращения и конечные штрихи.
– Поля: Оставлены свободными, причём внутренние поля (у корешка) самые узкие.
– Маргиналии: В заметном количестве встречаются только у Филиппи, Ойхеля, Мронговиуса, Доны и Райхеля.
Характер текстов.
Все рукописи представляют собой копии, для которых типичны ошибки и пропуски. Лишь в конспектах Ойхеля и Мронговиуса текст написан разными людьми. Признаки правки современником обнаружены только в Петербургской рукописи.
За редкими исключениями, до нас дошли лишь готовые продукты анонимного переписывания. Однако ситуация здесь отличается от той, что описал Эрих Адикес в отношении конспектов «Физической географии»: нет никаких указаний на то, что при составлении этих записей использовался автограф Канта. Следовательно, можно утверждать, что все тексты по антропологии изначально были созданы слушателями лекций.
Хотя допускается, что запись устной речи могла вестись коллективно, лишь в конспектах Мронговиуса, Доны и анонимного берлинского автора обнаружены признаки компиляции из лекций разных семестров. Иными словами, публикуемые здесь тексты восходят к одному конкретному курсу Канта.
б. Титульные листы и датировки.
Анализ титульных листов позволяет сделать следующие наблюдения:
– Упоминание учебников: В антропологии Баумгартен или учебник указаны лишь трижды (анонимная Петербургская рукопись, Путтлих и Дона 1). В логике – тоже три раза, в метафизике – четыре, в морали – четыре.
– Термин «nachgeschrieben» («записано»): В антропологии встречается только у Николаи и Путтлиха. Всего этот термин использован 15 раз из 103 доступных заголовков, что делает его довольно редким.
– Анонимность: Около половины рукописей по антропологии – анонимные, что указывает на существование массового переписывания, независимого от самого хода лекций. Аналогичная ситуация – в «Физической географии» и «Морали», тогда как в логике и метафизике (публичных, то есть бесплатных лекциях) личных записей сохранилось больше.
Особенности оформления.
– Латинские заголовки: Встречаются редко. Например, у Николаи (антропология), Келера (физическая география, 1775), Брауэра (мораль, 1780).
– Указание должности Канта: В 76 случаях он назван «профессором» (лишь 7 раз его имя не указано). «Кёнигсберг» как место чтения лекций упомянут 36 раз.
– Датировки: Из 29 заголовков по антропологии 18 содержат год, а 13 – более точные указания (семестр или месяц).
Примеры точных датировок.
– Зима 1772/73: Филиппи – указан октябрь 1772 (начало лекций).
– Зима 1775/76: Николаи – 30 марта 1776 (конец записи, рукопись утрачена).
– Зима 1779/80: Брауэр – указаны даты своей работы над конспектом.
– Зима 1784/85: Путтлих и Мронговиус – отметили время зимней переписки.
– Зима 1791/92: Три источника (аноним-Готтхольд 1, Дона-Вундлакен, Матушевский). Примечательно, что Дона указывает 11 сентября как начало, хотя зимний семестр начинался после Михайлова дня (29 сентября), а антропология читалась не раньше 12 октября.
Вывод.
Подавляющее большинство конспектов по антропологии – продукт анонимного копирования, на что ещё в начале XX века указывал Эрих Адикес в своих исследованиях «Физической географии» Канта. Лишь в нескольких случаях (например, Филиппи, Мронговиус) даты можно уверенно связывать с реальным временем чтения лекций.
––
Примечания:
1. Erich Adickes, Untersuchungen zu Kants physischer Geographie (1900).
2. В Pillauer рукописи титульный лист вырезан, но в начале помещён портрет профессора Канта.
Письменные тексты и устное изложение: особенности передачи лекций Канта.
Полная электронная обработка рукописных свидетельств лекций Канта по антропологии (включая систему нумерации и пояснений для издательских текстов) даёт ценные сведения о соотношении между конспектами студентов и подлинным словесным изложением философа.
1. Проблема аутентичности.
Старые исследователи конспектов – Адикес, Менцер и Краусс – единодушно считали, что между устной речью Канта и записанными текстами существует значительная разница, хотя и не сомневались в подлинности самих конспектов[1]. Однако ошибочно ожидать от редакторской работы восстановления «аутентичного текста» лекции, как, например, полагал Карл Фёрландер[2].
Понятие «аутентичности» применительно к студенческим записям требует крайней осторожности. Строго говоря, следует различать:
– историческую подлинность рукописи (т. е. её соответствие оригиналу),
– и авторизованность текста (одобренного самим автором).
В случае антропологии Канта авторизованных конспектов не существует[3], но и сомнений в подлинности дошедших рукописей не высказывалось.
2. Как реконструировать устную речь Канта спустя 200 лет?
Свидетельства современников помогают понять стиль Канта-лектора:
– Он говорил свободно, без строгого следования тексту.
– Использовал метафоры для объяснения сложных идей. Например, Боровский передаёт его слова:
«В первые годы преподавания он советовал нам мысленно раскладывать знания по „ящикам“ в голове. При чтении новой идеи спрашивать себя: „В какой ящик это положить?“»[4].
Эта же мысль встречается в конспекте Коллинза:
«Ничто из книг не запоминается, если нет „ящиков“ в уме. Поэтому систематичность – главное в науке»[5].
3. Стиль Канта: отказ от риторики и живые выражения
Боровский отмечал, что Кант презирал искусственное красноречие:
«Он ценил ясность, но считал, что учёный текст не должен быть слишком простым – читатель должен думать сам. Риторика для него была лишь „искусством убеждать и болтать“»[6].
Подобные высказывания встречаются и в лекциях 1780-х годов[7].
Характерная фраза Канта:
Яхманн вспоминал, что во время метафизических рассуждений Кант иногда увлекался и, теряя нить, восклицал:
«Короче говоря, господа!» – и резко возвращался к главной теме[8].
Эта фраза сохранилась в конспектах:
– Паров (стр. 161): «Короче, мы уступчивы во всём, кроме разума».
– Дона (стр. 155): «Короче, самоограничение – истинный путь к удовольствию».
4. Имя Канта в конспектах: дистанция или интерпретация?
Упоминание «Кант сказал» встречается редко, и это вызывает вопросы:
– В конспекте Парова (стр. 214) фраза «по мнению Канта…» есть, но в параллельных записях (Брауэр, Эйхель) имя опущено. Возможно, оно добавлено позже для заполнения пробела.
– В конспекте Доны имя Канта встречается в маргиналиях, но без титула «профессор» – возможно, это личная манера графа[9].
Противоположный пример – использование Кантом «я» в лекциях. В опубликованных работах это характерная черта его стиля, но в конспектах такие места редки. Например:
– Коллинз (стр. 14): «Я утверждаю, что…»
– Филиппи (стр. 3): «Я различаю „я“…»
Если Кант говорил от первого лица, то большинство студентов изменили эту форму, пересказывая его мысли от третьего лица.
5. Вопросы и ответы в лекциях.
Некоторые конспекты содержат явные вопросы и ответы, например:
– Брауэр (стр. 6):
«Откуда это происходит? [Ответ:] По двум причинам…»
– Мронговиус (стр. 5’):
«Вопрос: Что сложнее – познать себя или человечество? [Ответ:] Оба трудны, но себя – легче».
Это наводит на мысль, что Кант использовал диалогическую форму в преподавании.
6. Иноязычные термины и их перевод.
Эрих Адикес заметил, что редакторы (например, Ринк) заменяли иностранные слова немецкими аналогами, чтобы модернизировать текст[10]. Например:
– В „Мenschenkunde“ (1832) рецензент критиковал слово «Zerrbild» (карикатура) как позднюю вставку Кампе, которой у Канта не было[11].
Однако даже в рукописях 1772–1796 годов встречаются латинские и французские термины (из-за влияния учебника Баумгартена).
7. Объём конспектов: почему они не отражают полный текст лекции?
Даже самый подробный конспект (например, Коллинз) не достигает предполагаемого объёма лекции (270 000–350 000 слов). Это доказывает, что записи студентов – лишь приблизительное отражение устной речи Канта.
Вывод:
Конспекты лекций – ценный источник, но их нельзя считать дословной передачей. Они сочетают:
– подлинные фразы Канта,
– интерпретации студентов,
– редакторские правки.
Только сравнительный анализ всех сохранившихся версий позволяет приблизиться к пониманию того, как на самом деле звучали лекции Канта.
––
[1]: Adickes, Menzer, Krauß. Studien zu Kants Nachschriften.
[2]: Karl Vorländer. Kants Vorlesungen: Edition und Authentizität.
[3]: В архивах не найдено ни одного конспекта, авторизованного Кантом.
[4]: Borowski. Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants, S. 77.
[5]: Anthropologie-Collins, S. 2.
[6]: Borowski, 1912, S. 77.
[7]: См. параллельные места в лекциях 1780-х гг.
[8]: Jachmann. Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund.
[9]: Возможно, это особенность аристократического стиля Доны.
[10]: Adickes. Untersuchungen zu Kants physischer Geographie.
[11]: Rezension der Menschenkunde, 1832, Sp. 183.
Методические рекомендации по анализу комментариев.
Обработка данных полезна и в другом отношении. Если использовать её (как это уже делалось) для систематизации предметных пояснений, то можно быстро создать своего рода «индекс содержательности», сопоставляя объём текста с количеством помеченных как требующих разъяснения фрагментов. Для издательских текстов данного тома такой индекс представлен в следующей таблице.
Перекрёстные ссылки.
В графе «Перекрёстные ссылки» (колонка 3) учитываются такие языковые конструкции, как «об этом подробнее ниже» или «как уже было сказано выше». Конкретно к ним относятся:
– Collins: № 209.
– Parow: № 088, 222a, 236, 251a.
– Ms 400: № 026, 042, 065, 068, 075, 101, 115, 136, 140.
– Pillau: № 053b, 059, 072a.
– Menschenkunde: № 009, 070, 234a, 256, 260a, 271, 274.
– Mrongovius: № 004a.
– Busolt: № 025a.
Ссылки на учебник Баумгартена
Аналогичным образом можно подсчитать отсылки к учебнику Баумгартена, причём только те, что явно выделены курсивом и содержат прямое указание на «автора» или «нашего автора»:
– Collins: № 048, 193.
– Parow: № 080, 137, 232; с формулировкой «называют»: № 020, 038, 163.
– Friedländer (Ms 400): № 055.
– Pillau: явных упоминаний нет, но используются номера параграфов как структурные заголовки (напр., стр. 7 к § 527, стр. 11 к § 534 и т. д.).
– Menschenkunde: № 106; с формулировкой «называют»: № 091, 165, 169.
– Mrongovius: № 005, 083, 107, 146.
– Busolt: № 006b; с формулировкой «называют»: № 011.
Особое положение Mrongovius.
Во всех трёх категориях заметно исключительное положение Mrongovius:
– Коэффициент содержательности и прямые ссылки на Баумгартена крайне высоки.
– В то же время текстовая проработка (измеряемая количеством перекрёстных ссылок) крайне низка.
Поскольку нет оснований предполагать, что переписчик самостоятельно искал литературные источники, можно с уверенностью заключить, что в записи отражены только указания профессора во время лекции. Это согласуется с тем, что Кант, как свидетельствует рукописное наследие и, в частности, Боровский, «часто вплетал в свои лекции цитаты, отсылки к прочитанным работам, а иногда и анекдоты, всегда, впрочем, уместные» (Borowski, Ludwig Ernst, 1804).
Эта «статистическая» уникальность Mrongovius связана с ещё одной особенностью: это единственная полная стенограмма лекций, чья хронологическая близость к самому курсу не вызывает сомнений. Возникает вопрос: является ли это совпадение случайным, обусловленным личностью самого Mrongovius, или же здесь есть причинно-следственная связь?
Кёнигсбергский контекст в лекциях.Если рассматривать содержание лекций через призму выявленных пояснений, то можно выделить несколько ключевых моментов:
1. Литературные источники преобладают – лишь в немногих случаях Кант опирается на житейский опыт или местные реалии.
2. Четыре раза упоминаются особенности прусского просторечия.
3. Девять раз речь идёт о кёнигсбергских ситуациях.
4. Лишь один раз зафиксирован разговор с путешественником: в лекции зимы 1775/76 (Ms 399/400, стр. 584/635) фраза «В Индии, говорят, бёдра больше, чем у нас» явно восходит к беседе с господином Итоном, голландским консулом в Басре, о котором Кант упоминает в своей программной работе по физической географии (1775):
«Когда я имел удовольствие беседовать с внимательным и проницательным путешественником, господином Итоном… он сообщил мне, что… Кроме того, он подтвердил, что у индийцев бёдра длиннее, чем это обычно бывает у нас» (AA II, 439).
Таким образом, анализ пояснений позволяет не только выявить структуру лекций, но и проследить, как Кант сочетал академические источники с живыми наблюдениями.
4. Хронология передачи текста.
Для быстрого понимания ситуации с рукописной традицией и взаимосвязей между различными копиями удобно использовать табличное представление, которое отличается от традиционного составления стемм (родословных древ) для рукописей. Это методологическое различие объясняется двумя причинами:
1) количество предполагаемых «членов» рукописной «семьи» слишком мало;
2) не удалось выявить устойчивые признаки, которые бы однозначно указывали на направление заимствования.
ем не менее, полностью сохранившиеся рукописи, а также те, что были достаточно точно описаны в более ранних исследованиях, не являются абсолютно независимыми друг от друга. Если взять за основу внутреннюю структуру текстов (отражённую в заголовках), то при сравнении становится очевидно, что среди двадцати полностью сохранившихся текстов представлено лишь шесть различных версий лекций Канта. При этом первая версия распадается на два почти полностью независимых варианта. Таким образом, естественным образом выделяются семь групп (от A до G), восходящих к лекциям шести разных зимних семестров.
Сведения о других рукописях слишком скудны, чтобы можно было уверенно отнести их к какой-либо из этих групп. Дополнительным критерием для классификации (хотя и не всегда доступным) является дата зачисления в университет того студента, который сделал запись. Если упорядочить рукописи по группе, дате зачисления и алфавиту, получится таблица (см. стр. XCIV).
Для наглядности:
1) перед именем студента стоит звёздочка (), если по дате его зачисления можно предположить, что он слушал именно тот курс, который лёг в основу его записи;
2) некоторые тексты (включая альтернативные датировки) указаны дважды (в квадратных скобках), поскольку содержат фрагменты, хронологически значительно удалённые друг от друга.
Сравнение первой и третьей колонок таблицы ясно показывает, что однажды созданные тексты переписывались на протяжении долгого времени: например, запись лекций зимы 1772/73 гг. использовалась даже в рукописях Доны и Матушевского, созданных, вероятно, во время или после зимы 1791/92 гг.
Итоги.
Обобщая всё, что удалось выяснить с помощью исторического анализа, филологических наблюдений и статистики о процессе создания дошедших до нас записей, можно сделать следующий вывод:
По-видимому, на первом этапе фиксации устной лекции использовались отдельные листки с фразами, фрагментами или ключевыми словами. При этом не имело значения, делал ли эти пометки один человек или несколько. Студенты не ставили перед собой цель создать дословный протокол лекции или даже приблизительно точную запись её содержания. Скорее, они стремились зафиксировать основные тезисы, которые позже, уже дома, перерабатывались в связный текст.
Чтобы получить максимально полную и точную запись, требовалось собрать как можно больше материалов – не обязательно только своих, но и чужих конспектов лекций Канта. В зависимости от усилий и доступных источников создавались рукописи разного качества, которые затем использовались для механического копирования.
В случае с записями по антропологии есть много свидетельств, заставляющих усомниться в том, что в каком-либо семестре вообще существовал единый оригинальный текст – то есть запись, сделанная одним человеком и охватывающая весь курс. Поэтому исторически вернее рассматривать большинство сохранившихся текстов как результат коллективной работы студентов, а не индивидуальных усилий отдельных слушателей. Очевидно, их общей целью было создание самостоятельного, связного текста лекций, в котором уже не ощущалось бы, что изначально курс задумывался как комментарий к учебнику другого автора.
Лишь с существенными оговорками можно назвать индивидуальными произведениями рукописи Филиппи, Мронговиуса, Бусольта, Райхеля, анонимный Пиллауский манускрипт и отчасти Доны. Среди сохранившихся записей по антропологии нет ни одной, которая была бы полностью самостоятельной.
«Текст – это не застывший монолит, а живая традиция, в которой каждый новый переписчик становится соавтором» (А. Г. Лосев).
«Рукописная культура – это всегда диалог между автором, переписчиком и читателем» (П. М. Бицилли).
II. Датировка.
1. Методологические предварительные замечания.
Чтобы использовать студенческие конспекты лекций Канта для изучения эволюции его философии или для интерпретации его работ с учетом их генезиса, необходимо точно определить, к какому семестру относится тот или иной текст. В научных исследованиях для этого обычно привлекаются вспомогательные источники, которые можно систематизировать по трем основным категориям:
а) Даты чтения лекций Кантом,
б) Сведения, извлекаемые из самих рукописей,
в) Упоминания в тексте конспектов литературных источников или современных событий (внешние отсылки).
Наблюдения за содержательными сходствами или различиями между конспектами и опубликованными работами Канта играют второстепенную роль. Методы датировки не должны зависеть от заранее заданных интерпретаций содержания. Напротив, важно соблюдать принцип: если конспекты используются как источники для изучения развития кантовской философии, их датировка должна быть независимой от их содержания. В противном случае мы рискуем исключить возможность того, что Кант обсуждал идеи, появившиеся в его публикациях 1780-х или 1790-х годов, уже в своих лекциях или заметках за много лет до этого. Это лишило бы конспекты их ценности как исторических источников.
а. Разъяснение трех категорий.
1) Прежде всего, историческими методами необходимо установить общие рамки лекционной деятельности Канта: когда и какие курсы он читал. Основу для этого предоставляет «Указатель» Арндта/Шёндёрфера, который опирается на архивные данные университета и прусских властей. Хотя даже без углубленного изучения документов можно получить ключевую информацию о времени и продолжительности лекций.
Альбертина и академический календарь.
Как и в других протестантских университетах, реформированных по модели Меланхтона, в Кёнигсбергском университете (основанном в 1544 году) начало и конец семестров определялись не фиксированными датами, а церковными праздниками – Пасхой и Михайловым днём (29 сентября). Поскольку дата Пасхи колеблется между 22 марта и 25 апреля, длительность семестров могла различаться на целый месяц. Официальным признаком начала и конца учебного цикла была смена ректора университета. Согласно уставу, выборы ректора проводились:
«…на летний семестр – в воскресенье после Пасхи (Quasimodogeniti), а на зимний – в ближайшее воскресенье после Михайлова дня».
Таким образом, срок ректорства можно рассматривать как меру академического года. Интересно, что сам Кант был крещён в такой день – 23 апреля 1724 года, а в 1786 году, согласно уставу, в тот же день впервые стал ректором.
Однако лекции начинались не сразу после выборов ректора: расписание публиковалось лишь «через неделю после выборов в начале каждого полугодия», и только тогда начинались занятия. В письме университета от 24 сентября 1784 года, где он оправдывался перед министерством за «некоторые препятствия и злоупотребления, мешавшие учебному процессу», упоминается практика начала лекций:
«Публичные лекции, которые в других университетах считаются второстепенными, у нас, напротив, рассматриваются как основа академического обучения. Они объявляются в каталоге, и многие преподаватели, включая профессора логики [Канта], начинают их уже на следующий день после публикации расписания. Частные же занятия обычно стартуют на той же или следующей неделе».
Таким образом, можно заключить, что зимние приват-лекции Канта по антропологии начинались не раньше второй и не позже третьей недели после Михайлова дня.
Дополнительные сведения.1. Арндт не учёл в своём «Указателе» важный момент: каникулы в середине семестра. Летние каникулы (4 недели в июле-августе) подтверждаются перепиской Канта, а зимние упоминаются в некоторых конспектах. Такая практика сохранялась в Альбертине до 1852 года.
2. В первые годы преподавания Кант читал лекции не раньше 8 утра, но после получения профессуры в 1770 году его публичные занятия начинались в 7. Это было не его личное решение, а требование устава, как видно из письма Христиана Якоба Крауса (1788):
«Каждый профессор обязан читать публичные лекции 4 часа в неделю. Философам предписано вести свои дисциплины в строго определённое время: Кант – логику и метафизику в 7 утра, я – мораль и естественное право в 8».
Сам Кант признавался, что поначалу ему было трудно привыкнуть к ранним лекциям:
«В 1770 году, когда я стал профессором логики и метафизики и мои занятия начались в 7 утра, я нанял слугу, чтобы тот будил меня».
Первоначально антропологию Кант читал четыре дня в неделю после метафизики, но с 1776/77 года перешёл на двухчасовые блоки по средам и субботам с 8 до 10.
б. Информация из самих рукописей.
Для датировки важны не только явные указания на даты, но и косвенные данные:
– Кто был автором или владельцем конспекта?
– Когда студент поступил в университет?
– Есть ли другие его записи?
– Можно ли установить дату по водяным знакам бумаги или особенностям почерка?
Эти вопросы помогают определить terminus ad quem (предельную дату создания текста), но не исключают необходимости проверки других факторов.
b. Внешние отсылки в текстах
Другой ключ к датировке (terminus a quo) – упоминания современных событий или цитаты из опубликованных работ. Например, если в лекции цитируется книга, вышедшая в 1780 году, значит, она была прочитана не раньше этого года.
Особый случай – использование времён глаголов при упоминании умерших философов (например, «Юм говорит» vs. «Юм говорил»). В старой литературе этому придавалось большое значение, но такой подход ненадёжен:
1. В немецком языке настоящее время может относиться к текстам, а не к живым авторам («Юм говорит» = «в своей работе Юм пишет»).
2. При переписывании конспектов времена могли меняться случайно или намеренно.
Более весомы прямые отсылки к биографическим событиям (например, «недавно умер»), но они редки. В сохранившихся записях по антропологии таких случаев всего несколько:
– Бренкенхоф, Эйлер, Жоффрен, Галлер, Марион-Дюфрен, Руссо и др.
Однако даже здесь датировка зависит не столько от самого упоминания, сколько от источника, которым Кант мог пользоваться.
c. Четвёртый аспект: сравнительный анализ
Если по одной дисциплине сохранилось несколько конспектов, их сравнение позволяет уточнить датировку. Например, если один текст явно является копией другого, то его terminus ad quem должен учитывать всю группу связанных рукописей.
Однако такой анализ не должен превращаться в содержательное сравнение с опубликованными работами Канта – это задача отдельного исследования, а не издания источников. Ранние работы Бенно Эрдманна и других не всегда соблюдали эту границу.
Источники:
– Arnoldt, E., Schöndörffer, P. Verzeichnis der Vorlesungen Kants.
– GStAPK: XX. HA. EM 139b, 28.









