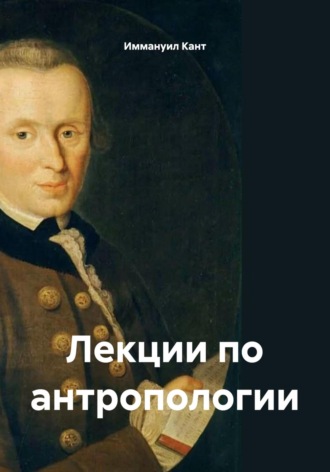
Полная версия
Лекции по антропологии
Эта же идея лежит в основе:
– моральной философии в лекциях Повальского и Коллинза,
– «Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (VIII: 15–31),
– «Метафизики нравов» (1797), где говорится о постепенных реформах, ведущих к «высшему политическому благу – вечному миру» (VI: 355).
Эта концепция высшего блага не отменяет остальные разделы антропологии, но придаёт им новое единство. Таким образом, можно проследить линию от детского самосознания (§ 1 «Антропологии») через обретение характера (не ранее 40 лет) к определению человеческого рода в истории.
––
Примечания:
1. См. «Критику чистого разума», A 805.
2. Ср. «Государство» Платона, где обсуждается природа человека.
3. В отличие от Шпальдинга, Кант не использует вопрос «Что есть я?».
4. «Menschenkunde», p. 369.
5. «Anthropologie Friedländer», p. 596.
6. «Anthropologie Mrongovius», p. 1419.
7. См. «Moralphilosophie Collins», XXVII: 470.
C. Свидетели текста: происхождение и датировка.
Предварительные замечания о рецепции.После того как в предыдущих разделах были рассмотрены вопросы происхождения, структуры и тематики лекций Канта по антропологии, необходимо перейти к анализу источников, на которых основывается их передача. Прежде чем приступить к детальному разбору возникновения и датировки сохранившихся конспектов, включенных в XXV том Академического издания, стоит обратить внимание на один важный аспект. Хотя он может показаться второстепенным для текущей публикации, он сыграл значительную роль в истории восприятия кантовских лекций. Речь идет о том, что ещё до выхода в 1798 году официального издания «Антропологии с прагматической точки зрения» содержание лекций Канта уже становилось предметом обсуждения – благодаря студенческим записям.
Интерес к лекциям Канта в 1770-е годы.
Достоверно известно, что уже в 1770-е годы Кант осознавал внешний интерес к своим лекциям. Осенью 1778 года он успешно разыскал и переслал в Берлин своему другу юности – Маркусу Герцу – конспекты своих лекций середины 1770-х годов[1]. Министр Карл Абрахам фон Цедлиц (1731–1793) также проявлял интерес к неопубликованному академическому наследию философа[2].
Косвенные свидетельства из переписки Канта указывают на то, что этот берлинский интерес был связан с именем Мозеса Мендельсона:
– Именно Мендельсону Кант рекомендовал Маркуса Герца.
– Летом 1777 года Мендельсон, проезжая через Кёнигсберг, посетил две лекции Канта[4].
– В письме от 1 августа 1778 года Цедлиц прямо признался Канту, что действует по совету Мендельсона («кто знает, что», X: 236,10).
Эти данные недвусмысленны: в кругу прусского министра юстиции, в ведении которого с 1771 года находились церковные и образовательные дела[5], мнение Мендельсона имело вес. Учитывая его связи с торговым домом «Фридлендер» (действовавшим в Берлине и Кёнигсберге), можно предположить, что его высокая оценка философии Канта связана с тем, что все четыре конспекта, сохранившиеся в семье Фридлендеров[6], относятся к 1770-м годам. Вероятно, Мендельсон был знаком с их содержанием.
Спрос на антропологию Канта в 1780-е и 1790-е годы.
Что касается антропологии, то уже во второй половине 1780-х Кант знал о внешнем (не только студенческом) интересе к своим лекциям. Согласно современным исследованиям, существует четыре ключевых свидетельства (возможно, частично связанных между собой):
1. Реймарус (1794)
2. Форберг (1796) / Фернов (1795–1797)
3. Меллин (1797–1804)
Эти данные (см. стр. CXXXV–CXLI) указывают на то, что спрос удовлетворялся за счёт кёнигсбергской индустрии конспектов. Таким образом, влияние кантовского учения о человеке вышло за рамки студенческой аудитории ещё до публикации 1798 года.
Скрытое влияние: заимствования и цитирование.
Помимо открытого распространения идей Канта, существовал и косвенный канал влияния, незаметный для посторонних. Некоторые фрагменты и формулировки из студенческих записей 1770-х годов были анонимно использованы Теодором Готлибом фон Гиппелем в его сочинениях[8].
Без детального анализа главного труда Гиппеля – «Жизнеописания по восходящей линии» (4 тома, Лейпциг, 1859, ~1350 стр.) – сложно оценить масштаб этого влияния. Однако современники отмечали:
«В первой части встречается многое из кантовских лекций по антропологии, а во второй – из лекций по метафизике»[1].
Приведём два примера заимствований:
1. Формулировка о вкусе (из Жизнеописаний, т. 4, стр. 12–13):
«Если серебряная табакерка нравится меньше, чем хрупкая фарфоровая – берлинская или дрезденская, – скажите, разве у человека всегда есть время ждать табакерку? И разве не неприятно, если она разобьётся? Разве в мире не найдётся дел поважнее, чем демонстрировать вкус? Крестьянин, продающий дойную корову, чтобы купить алансонские кружева, брабантские манжеты или Рубенса (хотя бы кусочек его), – что вы на это скажете?»
Источник этой мысли – конспект Коллинза (стр. 153–154)[3].
2. Философский фрагмент о рае (из Жизнеописаний, т. 4, стр. 108–109):
«Но я могу представить, что человек вернётся – и вернётся по принципам туда, откуда вышел, и что в конце концов мир снова станет раем, каждый мужчина – Адамом, а каждая женщина – его ребром. […] Это рай по принципам, который человек может построить себе сам.»
Эта идея восходит к конспекту зимы 1775/76 года[4].
Публикации конспектов после 1798 года.
Даже после выхода «Антропологии…» (1798, 2-е изд. – 1800, 3-е – 1820, 4-е – 1833) продолжали копироваться студенческие записи. А в 1831 году Иоганн Адам Берк под псевдонимом «Фр. Х. Штарке» опубликовал два полных текста:
1. «Иммануила Канта "Человекознание, или Философская антропология" по рукописным лекциям»
2. «Иммануила Канта "Наставление в познании человека и мира" по лекциям зимнего семестра 1790–1791 гг.»
Хотя в феврале 1832 года эти издания были рецензированы в «Йенской всеобщей литературной газете» (№ 23–25, автор – «К. Ф. М.»), они не вызвали большого интереса. В 1838 году, когда вышел первый том кёнигсбергского собрания сочинений Канта (под ред. Розенкранца и Шуберта), оба текста были переизданы. Можно сказать, что для современников это было уже поздно, а для историков философии – ещё рано.
Публикации XIX века и научное изучение.В 1857 году историк Фридрих Вильгельм Шуберт (1799–1868) опубликовал в «Кёнигсбергских новых прусских провинциальных листках» статью «Несколько листов И. Канта из его подготовительных материалов к антропологии. По автографам». Опираясь на письмо Канта к Герцу (декабрь 1773, а не 1774, как ошибочно полагал Шуберт) и личный экземпляр «Наблюдений над чувством прекрасного и возвышенного», Шуберт утверждал (стр. 54), что черновые заметки Канта служили основой для лекций:
«Особенность этих набросков для антропологии в том, что они связаны с его "Наблюдениями…", изданными в 1764 году у Кантера в Кёнигсберге. Множество заметок, наблюдений, более или менее разработанных идей были вписаны в экземпляр этой работы – на полях, на вклеенных листках, – чтобы служить компендиумом или руководством для новых лекций по антропологии.»
Однако сравнение опубликованных Шубертом фрагментов с текстами конспектов не подтверждает эту гипотезу.
Начало научного исследования.С появлением историко-критического подхода в исследованиях Канта (Бенно Эрдман и др.[2]) около ста лет назад началось систематическое изучение его учения о человеке. Однако рукописные источники самих лекций привлекались редко[4]. Хотя иногда встречались попытки датировки опубликованной «Человекознания», критический анализ первоисточников не проводился – вероятно, потому, что эту задачу ожидали от IV раздела Академического издания (лекции).
Даже издание 1924 года («Основные философские лекции Иммануила Канта. По новообнаруженным конспектам графа Генриха цу Дона-Вундлаккена», под ред. Арнольда Ковалевского) сознательно отказалось от специализированных исследований (см. стр. 53).
Примечания.
[1]: См. письмо Канта Маркусу Герцу, декабрь 1773.
[2]: Письмо Цедлица Канту, 1 августа 1778.
[4]: О визите Мендельсона см. биографические источники.
[5]: О реформе управления образованием см. исторические работы.
[6]: Конспекты семьи Фридлендер: Collins, Parow, Pillau, Mrongovius.
[8]: О заимствованиях Гиппеля см. исследования.
[3]: Collins, Nachschrift, стр. 153–154.
[4]: См. конспект зимы 1775/76.
I. Элементы исследования о происхождении конспектов лекций.
Нельзя отрицать, что исторически ориентированное кантоведение до сих пор предоставило крайне мало подробных сведений о конкретных обстоятельствах создания многочисленных конспектов лекций (Nachschriften) и их роли в образовательном процессе студентов. Отдельное издание, подобное данному – «Антропологии», – не смогло бы восполнить все существующие пробелы в знаниях за один раз. С одной стороны, для этого потребовалось бы более глубокое изучение институциональных условий немецких протестантских университетов во второй половине XVIII века, чем это имеет место сейчас. С другой стороны, лишь в самое последнее время архивные материалы, относящиеся к Альбертине (Кёнигсбергскому университету), стали доступны в достаточном объеме.
Хотя мы и признаем, что сегодня нам еще далеко до полного понимания контекста, в котором сохранились конспекты лекций Канта, это не означает, что следует продолжать опираться на уровень знаний 1911 года. Напротив, даже без детальных биографических изысканий можно сформировать исторически обоснованное представление о методах и целях создания этих записей. Вкратце рассмотрим этот вопрос в двух аспектах, прежде чем перейти к формальному анализу самих конспектов.
1. Институциональный контекст.
Размышляя об условиях возникновения студенческих записей лекций («коллегий» или «lectiones») в Кёнигсберге второй половины XVIII века, важно помнить, что Кант начал преподавать в качестве ординарного профессора логики и метафизики лишь с летнего семестра 1770 года. До этого в течение пятнадцати лет он был приват-доцентом и магистром, хотя еще в декабре 1758 года безуспешно пытался занять эту должность. Год 1770 стал поворотным не только в биографии Канта, но и в восприятии его лекций студентами.
За исключением записей его, пожалуй, самого известного слушателя – Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803), который посещал лекции Канта с августа 1762 по ноябрь 1764 года, – не сохранилось ни одного конспекта, относящегося к периоду приват-доцентства Канта. По-видимому, лишь с получением профессуры и установлением регулярного цикла чтения лекций возникли институциональные предпосылки для создания конспектов, предназначенных для студенческого рынка. Именно эта форма сохранения знаний и обеспечила передачу рукописей потомкам.
Самый ранний из известных конспектов – запись лекций по физической географии, сделанная Георгом Гессе в 1770 году и обнаруженная лишь в 1983 году в Хельсинки. В текстах двух старейших из более чем двадцати конспектов по логике содержится (вряд ли случайно) отсылка к диссертации Канта 1770 года. Аналогичная ситуация и с метафизикой: хотя её конспекты сохранились хуже (из 17 известных рукописей в академическом издании опубликовано лишь восемь), самое раннее из них, судя по пометкам, относится к зиме 1775/76 года.
То же касается и моральной философии: почти все сохранившиеся записи относятся к лекциям середины 1770-х, а самая ранняя датируется летом 1777 года. Среди других дисциплин стоит упомянуть энциклопедию и так называемую «берлинскую физику», представленную в рукописи из Берлинской государственной библиотеки. Оба текста восходят к лекциям второй половины 1770-х.
Важно отметить, что все предметы, которые преподавал Кант, относились к философскому факультету – нижнему в иерархии университета. Это проливает свет на практическую функцию конспектов в образовании студентов.
После Семилетней войны прусская система высшего образования оказалась в поле зрения просвещенного монарха Фридриха II. Началась реорганизация университетов, и в 1770 году в Кёнигсберг поступил детальный указ, предписывающий издание «Методологических наставлений для студентов всех четырех факультетов». Эти наставления содержали подробные программы обучения, рассчитанные на три года (шесть семестров).
Согласно этим документам, лекции на философском факультете носили пропедевтический характер: они готовили студентов к изучению дисциплин трех «высших» факультетов – теологии, юриспруденции и медицины. В наставлениях подчеркивалось:
«Поэтому каждому студенту рекомендуется как можно раньше прослушать главные философские коллегии, особенно те, которые наиболее необходимы для его основной науки. Он получит от этого ту выгоду, что теология или другая главная наука будет ему даваться легче и быстрее. <… Истинная философия есть умение мыслить свободно, без предрассудков и приверженности к какой-либо секте, и исследовать природу вещей».
Таким образом, конспекты лекций философского факультета не предполагали механического заучивания (как, например, на юридическом), а были нацелены на развитие самостоятельного мышления.
Сама практика создания конспектов восходит к эпохе до изобретения книгопечатания. Однако в протестантских университетах она сохранялась и позже – как педагогический прием. Поэтому неудивительно, что Кант читал лекции по печатным учебникам, хотя сам так и не издал собственного. Он следовал принципу, сформулированному еще в 1765 году: «Слушатель должен учиться не мыслям, а мышлению». Исключением была лишь «Физическая география», которую он читал по собственным записям.
Наконец, стоит упомянуть и внешние условия: лекции читались не в университетских зданиях, а в частных аудиториях, принадлежавших или арендованных преподавателями. Известно, что в 1784 году Кант перестроил часть своего дома для чтения лекций. Один из современников так описывал аудиторию:
«Устройство этого зала таково, что одни столы предназначены для записывающих слушателей, а другие, не записывающие, должны довольствоваться простыми скамьями без столов».
Подготовка студентов к университетскому обучению.Второй аспект, на который стоит обратить внимание при общем обзоре системы образования, – это уровень подготовки студентов. В XVIII веке школы ещё не находились под полным контролем государства: частное обучение сосуществовало с общественными учебными заведениями. Качество образования в значительной степени зависело от знаний и усердия конкретных преподавателей или домашних учителей. Поэтому уровень подготовки будущих студентов был крайне неоднородным, причём не имело особого значения, обучались ли они у частных педагогов или посещали государственные школы. В целом, уровень знаний абитуриентов оставался довольно низким. Власти неоднократно пытались исправить эту ситуацию. В Пруссии эти усилия привели к введению первого регламента об экзаменах на аттестат зрелости (Abitur) в 1788 году. Однако потребовалось ещё несколько лет, прежде чем эти меры начали давать результаты. Для периода преподавательской деятельности Канта они запоздали.
Сложившаяся в Пруссии к середине XVIII века практика перехода из школы в университет говорит сама за себя:
«Поступление в университет в лучшем случае требовало экзамена на зрелость только от тех, кто хотел воспользоваться стипендиями, предоставляемыми школьными попечителями. В остальных случаях существовало лишь общее распоряжение времён Фридриха Вильгельма I, согласно которому никто не мог быть зачислен в университет без свидетельства о своих знаниях. Однако выдача такого свидетельства оставалась на усмотрение ректора, причём минимальный уровень подготовки в нём указывался лишь в самых общих выражениях и лишь для будущих теологов и учителей. Таким образом, решение о поступлении в университет фактически зависело от самих учеников и их семей».
Отбора по критерию профессиональной пригодности не существовало и в самих университетах. Документально подтверждённая процедура зачисления в Кёнигсберге ясно показывает, что вступительные экзамены были чистой формальностью. Во времена Канта принцип вступительных, а не выпускных экзаменов оставался незыблемым как в школах, так и в университетах и профессиональной сфере. Государство практически не могло влиять на учебный процесс. Даже эти экзамены играли роль фильтра лишь в сочетании с условиями получения стипендий. Кроме того, средний возраст поступления в университет был на два-три года ниже, чем в современной Германии, где студенты обычно начинают обучение в 18–19 лет.
Практика конспектирования: методы и вспомогательные средства.С точки зрения практики конспектирования возникает вопрос: какими техническими приёмами пользовались студенты и какую помощь они получали?
Во-первых, в случаях, когда домашние учителя (Hofmeister) сопровождали своих подопечных в университете, можно предположить, что они также контролировали ведение записей. В одном из исследований о роли Hofmeister в XVIII веке говорится:
«Если подопечный отправлялся в университет, у [учителя] была возможность посещать лекции вместе с ним и заводить знакомства. “Дворянские” наставники обычно не преподавали сами, а лишь следили за учебным процессом, так что у них оставалось время для собственных занятий. […] Сопровождение студентов в университет было популярно ещё и потому, что бедные студенты-теологи могли наверстать упущенное в своём образовании».
Подтверждение этому можно найти и в ближайшем окружении Канта. Христиан Якоб Краус (1753–1807), бывший Hofmeister графа Арчибальда Николая Гебхарда Кейзерлинга (1759–1829), описывал свои обязанности так:
«Моя работа с молодым графом ограничивается сопровождением его на лекции Канта, повторением материала и руководством его чтением, которым он и так охотно занимается. После обеда я свободен и с четырёх часов дня уже не вижу своего воспитанника, так как у него ежедневно собирается общество. За эти скромные труды я получаю двести талеров в год и полное содержание».
Более того, среди известных конспектов лекций Канта по антропологии есть два, в создании которых участвовали Hofmeister. Один из них принадлежит Исааку Аврааму Ойхелю (1758–1804), работавшему воспитателем в торговом доме Иоахима Мозеса Фридлендера в 1780-х годах. Вероятно, его главной заботой был Михаэль Фридлендер (1769–1824), записавшийся в Кёнигсбергский университет в 1782 году как «студент изящной словесности» и впоследствии, после изучения медицины в Галле, сыгравший важную роль в связях Канта с берлинскими просветителями.
Другой пример – граф Генрих цу Дона-Вундлакен. Арнольд Ковалевский в предисловии к изданию конспектов его лекций Канта отмечает, что молодой граф
«пользовался помощью наставника, который мог разъяснить сложные места в записях и, во всяком случае, отвечал за их аккуратное и систематическое ведение».
Культурно-исторический контекст конспектирования.С точки зрения истории культуры можно выделить три ключевых момента:
1. Отсутствие стенографии. В немецкоязычном пространстве (в отличие от Англии) не существовало системы быстрой записи, позволявшей точно фиксировать устную речь, пока в 1834 году Франц Ксавер Габельсбергер не разработал удобную систему символов. Поэтому при анализе студенческих конспектов нельзя ожидать «стенографической» точности.
2. Метод “письменного хора”. В начале XVIII века пиетистский проповедник Август Герман Франке (1663–1727) использовал коллективный метод записи своих проповедей. В 1700 году он организовал «Schreibechor» – группу студентов, которые дословно фиксировали его речь. Подобные методы применялись и во время его поездок. Например, в 1718 году в Ульмском соборе двенадцать гимназистов из монастырской школы в Блаубойрене записали его двухчасовую проповедь слово в слово.
Хотя неизвестно, насколько широко этот метод применялся в университетах, можно предположить, что студенты (по крайней мере, в Галле) использовали его для записи лекций. Однако вряд ли это делалось с той же точностью, как у Франке. Тем не менее, конспекты можно рассматривать как коллективный продукт – не только в смысле сотрудничества между лектором и слушателем, но и как результат совместных усилий группы студентов.
Из более чем ста известных конспектов лекций Канта лишь в одном – анонимной «Венской логике» – прямо указано, что он был «записан группой слушателей».
3. Руководства по ведению конспектов. Студенты и их наставники, вероятно, обращались к специальной литературе, посвящённой методике университетского обучения. В библиографии немецких университетов Эрмана и Хорна такие работы относятся к разделу «Методы обучения и преподавания. Наставительные и поучительные сочинения», где можно найти множество советов по ведению лекционных записей.
Особого внимания заслуживает книга Христиана Августа Фишера «О лекциях и конспектах. Или проверенное руководство по эффективному слушанию и записи академических и гимназических лекций» (Бонн, 1826). В ней подробно разбираются практические аспекты конспектирования. Первые два параграфа шестого раздела («О ведении и быстрой записи конспектов, а также их исправлении, дополнении и редактировании») особенно интересны, поскольку они точно описывают методы, которые, судя по сохранившимся записям лекций Канта, использовались его студентами:
§ 1. Что касается ведения конспектов, то следует отметить следующее:
– Лучше всего писать на плотной бумаге среднего качества, используя сложенные пополам листы формата кварто. Так их будет удобнее переплетать, а в случае необходимости можно переписать отдельные страницы, не разрывая всю тетрадь.
– Каждая тетрадь должна иметь небольшой отступ у корешка (примерно в ширину ногтя), чтобы её можно было легко переплести.
– Необходимо оставлять широкие поля (не менее двух пальцев), чтобы делать пометки и дополнения.
– Чернила должны быть качественными и чёткими (это само собой разумеется, но мы упоминаем об этом вскользь).
– Записи должны быть структурированы не по времени (как делают некоторые), а по темам, в соответствии с ходом лекции.
§ 2. Что касается быстрой записи, то её можно ускорить двумя способами:
– концентрируясь на сути излагаемого,
– используя сокращения слов.
Последующие пояснения Фишера содержат множество детальных рекомендаций, которые почти дословно соответствуют методам, применявшимся кёнигсбергскими студентами.
Заключение.
Таким образом, подготовка студентов в XVIII веке была крайне неоднородной, а система образования не обеспечивала единых стандартов. Методы конспектирования варьировались от индивидуальных записей до коллективных усилий, а технические приёмы (такие как сокращения и структурирование материала) были сходны с теми, что позднее описал Фишер. Хотя стенография ещё не существовала, студенты находили способы фиксировать лекции, иногда прибегая к помощи наставников или совместной работе. Эти практики отражают как особенности образовательной системы того времени, так и стремление студентов максимально точно сохранить знания, передаваемые выдающимися профессорами, такими как Кант.
3. Общее описание и формальный анализ конспектов лекций.
а. Сводная характеристика.
Для большинства пользователей Академического издания (Akademie-Ausgabe) редко представляется возможность лично ознакомиться с рукописными оригиналами, лежащими в основе публикации лекций. Ещё реже у исследователей находится достаточно времени, чтобы на основе исторических данных провести самостоятельный анализ или углубиться в критическое изучение первоисточников. Даже при подготовке настоящего XXV тома материальные особенности конспектов – такие как переплёт, бумага и чернила – не стали предметом детального исследования.
Хотя теоретически возможно изучить эти внешние признаки для уточнения датировки и происхождения текстов, подобная работа потребовала бы колоссальных усилий. Достоверные результаты можно было бы получить лишь при условии изучения всех доступных оригиналов XVIII века и сбора биографических данных всех студентов, составлявших конспекты. Из примерно 100 рукописей, которые могли бы стать основой такого исследования, на сегодняшний день доступны 62 (не считая записей Гердера). Остальные, как и большая часть фондов двух крупных кёнигсбергских библиотек, считаются утраченными с 1945 года.
Предварительных исследований, необходимых для такой работы, практически не существует, а количество студентов, чьи данные нужно учитывать, достигает 50. Кроме того, поиск материалов потребовал бы длительных изысканий в архивах Берлина, Гданьска, Ольштына, Торуня и Варшавы.
Хотя методологически невозможно сделать окончательные выводы на основе конспектов только по одной дисциплине или ограниченного круга студентов, краткая характеристика рукописей по антропологии в разделе «Внешние особенности» всё же может оказаться полезной.
Внешние особенности рукописей.
При рассмотрении рукописей по антропологии с учётом указанных ограничений можно отметить следующее:









