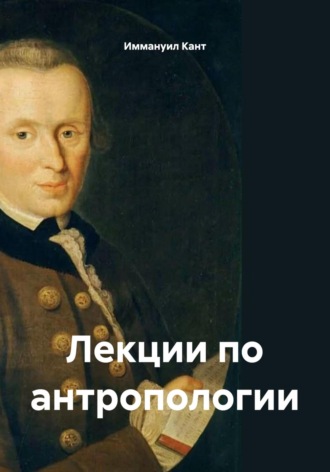
Полная версия
Лекции по антропологии
1. Познание: самосознание; обман и иллюзия; понятие идеи; витальное чувство и осязание.
Вольф и Баумгартен включали психологию в свою систему вслед за космологией. Так, Баумгартен в «Psychologia empirica» определял сознание как свойство души («Si quid in ente est, quod sibi alicuius potest esse conscium, illud est anima», § 504), а мысли в сознании – как репрезентации: «Cogitationes sunt repraesentationes. Ergo anima mea est vis repraesentativa» (§ 506). Содержанием этих репрезентаций является вселенная, воспринимаемая через тело, занимающее определенное место («positus») в космосе (§§ 508–509).
Кант, однако, отвергает связь психологии с космологией, поскольку душа больше не может быть просто помещена в космос. Этот отказ – следствие критики метафизики в «Грезах духовидца» (1766) и теории субъективного пространства-времени из диссертации 1770 года: если пространство есть форма «vis animi» (II: 404), то душа не может быть локализована в предзаданном пространственном универсуме. (В «Критике чистого разума» паралогизмы рациональной психологии предшествуют антиномиям космологии.)
Таким образом, у Канта самосознание понимается иначе, чем у Вольфа и его последователей: это не осознание себя как отличного от мира, а рефлексия «Я» на самого себя. Эмпирическая психология (или прагматическая антропология) начинается с анализа представления о «Я», без изначального противопоставления внешнему.
Хотя антропология у Канта – эмпирическое учение, не относящееся к априорной метафизике, лекции открываются разделом, напоминающим рациональную психологию: анализ слова «Я» приводит к признанию простоты, субстанциальности, личности и даже свободы (спонтанности) души. Это знание, по Канту, не выводится дедуктивно (как у Декарта с его «cogito – ergo sum»), а дано непосредственно в интуиции «Я».
Здесь Кант, с одной стороны, опирается на школьную метафизику, с другой – обращается к французской антропологии. Так, цитата из «Исповеди веры савойского викария» Руссо («Émile») показывает, что Кант учитывает не только рациональную психологию вольфианцев, но и новые естественно-научные концепции человека. Буффон и Руссо, следуя Декарту, подчеркивают принципиальное различие между человеком и животными: последние не способны к самосознанию, тогда как человек через интуицию «Я» постигает духовную природу своей души.
В ранних лекциях (например, у Коллинза) Кант утверждает: «Я – основа рассудка, разума и всей высшей познавательной способности, ибо все эти силы зависят от того, что я наблюдаю и созерцаю себя и свои внутренние процессы» (Collins, p. 3). Однако позже, в «Антропологии Пиллау», акцент смещается: хотя «Я» остается ключевым понятием, его эпистемологический статус ставится под вопрос. В «Критике чистого разума» самосознание трактуется уже как «апперцепция» (Menschenkunde, p. 207).
Отказ от интуитивного самопознания не означает, что «Я» теряет свою значимость. Как подчеркивается в «Пиллау» и поздней «Антропологии» (1798), способность мыслить себя возвышает человека над природой: «Если бы лошадь могла мыслить "Я", я должен был бы сойти с нее и считать ее своим собратом» (Menschenkunde, p. 9). Человек, благодаря самосознанию, – «не часть мира, заполняющая пустоту, а центр творения и его цель» (Collins, p. 3).
2. Бессознательное и проблема иллюзии.
Кант уделяет внимание бессознательным представлениям и деятельности рассудка, следуя идеям Зульцера («Объяснение психологически парадоксального тезиса», 1759). В лекциях нередко говорится, что человек может быть «игрушкой темных представлений» (Ms. 400, p. 41–42), что позже отразится в «Антропологии» (VII: 135–137).
Важное нововведение – различение обмана («fraus») и иллюзии («illusio»), впервые четко сформулированное в 1777 году. Обман исчезает при разоблачении, иллюзия же сохраняется даже после осознания. Эта идея применяется как в теории познания (например, к трансцендентальной диалектике), так и в этике: социальные условности, создающие «видимость моральности», не являются обманом, а служат ступенью к подлинной нравственности («Кто любит видимость добра, со временем полюбит и само добро», Menschenkunde, p. 89).
Витальное чувство и осязание.
Кант вводит понятие витального чувства (ощущение состояния тела) и отличает его от осязания (тактильного восприятия формы предметов). Эти идеи развиваются в лекциях 1770-х годов и окончательно оформляются в «Антропологии» 1798 года (VII: 154–155).
Таким образом, лекции по антропологии не только отражают эволюцию взглядов Канта, но и демонстрируют, как философ переосмысляет традиционные проблемы, соединяя метафизику с эмпирическим изучением человека.
Чувство удовольствия и неудовольствия: Невыразимая боль жизненного чувства и финализм антропологии.
В рукописи 1775–1776 годов (Ms. 400, стр. 286–287) Кант отмечает: «Удовольствие существует лишь в наслаждении жизнью без осознания её причины. Боль же – это чувство препятствия в каком-то месте жизни…» В этот период он ещё придерживается идеи, разделяемой также Эпикуром, о том, что сама жизнь сопровождается чувством удовольствия. Соответственно, разумное правило поведения должно сводиться к избеганию страданий, чтобы сохранить естественное наслаждение жизнью.
Однако это представление резко меняется после знакомства Канта с трудом Пьетро Верри «Размышления о природе удовольствия» (1777, в переводе Кристофа Майнерса). Верри утверждает, что не существует ни физического, ни морального удовольствия без предшествующей боли. Мы редко осознаём причину этой смутной, «невыразимой» боли, но именно она составляет основу человеческого существования. Удовольствие же возникает лишь как кратковременное ослабление страдания. Эти «безымянные» страдания служат своего рода «стимулом», побуждающим человека к постоянной активности в попытках от них избавиться.
Идеи Верри находят отражение в кантовских лекциях (например, в «Антропологии Пиллау», стр. 68–69, 72), а также в «Антропологии с прагматической точки зрения» (стр. 249–265). Это становится важным дополнением к моральной философии Канта, которое он сохранит на протяжении всей жизни. Если этика (не только у Канта) приходит к выводу, что «жизнь сама по себе не имеет абсолютной ценности – ценен лишь добрый воля человека» (хотя он и обязан сохранять как свою, так и чужую жизнь, если это морально допустимо), то после 1777 года антропология добавляет: «Жизнь как таковая не приносит удовольствия – оно возникает лишь в деятельности, временно преодолевающей страдание».
Таким образом, природа предназначила человека не к покою и наслаждению жизнью (как у Эпикура с его идеалом dolce far niente), а к постоянному труду. В «Лекциях по этике» (Коллинз, стр. 147) эпикурейское счастье описывается как «радостное и удовлетворённое сердце, где довольство проистекает из нас самих». Однако после знакомства с Верри Кант иронично замечает, что «главное их достижение состояло в том, что они ели кашу, пили воду и делали друг другу приятные лица» («Антропология», стр. 260).
Против стоической идеи, будто добродетель сама по себе награждает человека чувством самоудовлетворения, Кант теперь утверждает: «Довольство жизнью (acquiescientia) недостижимо для человека – ни в моральном (удовлетворённость собой), ни в прагматическом смысле. Природа вложила в него боль как стимул к деятельности, от которого нельзя убежать, чтобы он постоянно стремился к лучшему…» (VII: 234–235).
Ещё в 1775 году, полемизируя с Мопертюи (и соглашаясь с Адамом Фергюсоном, «Опыт истории гражданского общества», Лейпциг, 1768), Кант писал, что нельзя «вывести породу благородных людей в какой-либо провинции, ибо именно в смешении добра со злом заключены великие побуждения, пробуждающие дремлющие силы человечества и заставляющие его развивать все свои таланты» (II: 431). Теперь, под влиянием Верри, к «злу как необходимому ферменту добра» добавляется «страдание как эликсир жизни и стимул деятельности».
После 1777 года «фаустовский принцип» (неустанного стремления) закрепляется в прагматической антропологии. Однако Кант оговаривается, что он применим не ко всем: «Кариб, в силу своей врождённой вялости, свободен от этого бремени» (VII: 233, прим.). Он не чувствует «укола безымянной боли», и зло не побуждает его развивать свои способности. Выходит, природа в своих замыслах учитывала лишь белого человека.
Первоначально Кант, кажется, безоговорочно принимает учение Верри. Однако в опубликованной «Антропологии» он пишет более осторожно: «Эти положения графа Верри я подписываю с полным убеждением» (VII: 232). Слово «эти», возможно, означает, что он согласен лишь с частью теории. Ограничение связано с тем, что Верри распространяет свою идею на все формы удовольствия и неудовольствия – как физические, так и моральные. А у Канта уже в 1770-е годы складывается теория «рефлектирующего удовольствия» (XXVIII: 250) в моральной сфере, а позже – концепция априорного удовольствия в «Критике способности суждения», где эстетическое наслаждение возникает из гармонии воображения и рассудка и не требует предварительного страдания (V: 216–219).
Таким образом, к 1780-м годам Кант приходит к уточнению идей Верри, принимая их лишь частично. Однако главный вывод остаётся: «Страдание оправдано, ибо без него мы поддались бы лени и не продвигались бы в саморазвитии и цивилизации – а значит, не достигли бы и морали, которую, по замыслу природы, должны в себе воспитать».
Заметка о телеологии.
С самого начала (1772/1773) антропология Канта пронизана финализмом. Переход от спекулятивной эмпирической психологии к прагматическому учению о благоразумии в 1770-е годы произошёл легко, поскольку человеческая природа, изучаемая психологией, уже изначально целесообразна, и человеку в его практической жизни остаётся лишь следовать ей. «Жить разумно – значит жить в согласии с природой».
Одна из ключевых задач философа (и антрополога) – обнаруживать скрытую целесообразность даже там, где обычный человек видит лишь зло. Вера в то, что культура в конечном счёте накапливает лишь благо, проявляется, например, в «Антропологии Пиллау», где среди великих изобретений упоминаются «пушки и порох, которые мешают народам лишаться своей безопасности» (стр. 149). При этом Кант не рассматривает обратную сторону – агрессию и гонку вооружений.
Сомнение в универсальности финализма впервые появляется в «Лекциях Дона»: «Утверждают, будто каждое изобретение приносит человечеству больше пользы, чем вреда – но в случае с водкой это вряд ли доказуемо. Водка действительно ведёт к вымиранию народов и приносит огромный вред без какой-либо пользы» (стр. 36).
В «Критике способности суждения» проводится строгое различие между «последней целью природы» и «моральной конечной целью». Однако в ранних антропологических записях эти термины используются без чёткого разделения. Лишь в опубликованной версии «Антропологии» слово «конечная цель» приобретает строгое моральное значение. Поскольку прагматическая антропология не занимается принципами морали, это уточнение вводится без специальных пояснений.
Примечания:
1. Christoph Meiners (1747–1810) – немецкий философ и антрополог, популяризатор идей Верри.
2. Термины «физическое» и «моральное» удовольствие/страдание у Верри относятся соответственно к телесным и душевным переживаниям.
3. «Невыразимый» (unnamebar) – ключевое понятие, подчёркивающее неосознанность глубинной жизненной боли.
4. «Стимул» (Stachel) – метафора, часто используемая Кантом для описания роли страдания в мотивации.
3. Антропология и мораль.
Прагматическая антропология ни на одном этапе своего развития не совпадает с той антропологией, которую Кант после 1770 года неоднократно рассматривал как дополнение к своей моральной философии. Она формируется в результате двойного выделения: сначала эмпирическая психология отделяется от корпуса метафизики и излагается самостоятельно (1772/73), а затем исключается из числа строгих академических дисциплин и превращается в учение, связующее школу и мир. Однако знание мира само по себе не имеет изначальной связи с моральной философией.
О значительном, хотя и не конкретизированном концептуально, расстоянии между критической моральной философией и прагматической антропологией красноречиво свидетельствует тот факт, что ни в студенческих записях лекций, ни в опубликованной версии «Антропологии» (1798) не встречаются такие ключевые для кантовской этики термины, как «категорический», «императив» или «автономия». Не менее показательно и обратное: в печатных работах Канта (за исключением самой «Антропологии») отсутствуют понятия «прагматическая антропология» или «антропология в прагматическом отношении». Даже в лекциях по метафизике эмпирическая психология иногда именуется антропологией, а в «Лекциях по энциклопедии философии» встречаются упоминания «антропологии» и «практической антропологии» (XXIX: 11 и 12), но не прагматической. Это подтверждает, что прагматическая антропология не была органично интегрирована в систему кантовской философии.
С теоретической точки зрения она претендует на научность и систематичность, однако Кант не предпринимает попыток обосновать эти претензии в рамках критической философии – в отличие, например, от физики (где задача доказательства научного статуса естествознания в системе критицизма привела к сложным изысканиям «Opus postumum»). Прагматическая антропология игнорирует учение «Критики способности суждения» о природной телеологии как концепции, применимой лишь в рефлектирующей способности суждения, и догматически использует идею природных целей. В моральной философии она также не занимает четко определенного места. Как дисциплина, антропология остается невосприимчивой к критической философии, разработанной Кантом после 1770 года, хотя и затрагивает её темы, но лишь в специфическом, прикладном ключе.
В письме к Герцу (X: 146) лекции по антропологии описываются как «подготовка к искусству благоразумия и даже мудрости». В соответствии с этой программой они включают, с одной стороны, экскурсы в моральное учение, а с другой – варьирующуюся по степени выраженности ориентацию на моральное благо: подлинно разумное поведение, к которому призвана вести прагматическая антропология, если и не тождественно нравственному поступку, то по крайней мере совместимо с ним.
В кантовских пояснениях к понятию «прагматического» прослеживаются две тенденции: сведение к учению о благоразумии и связь благоразумия с нравственным благом. Например:
1. Акцент на благоразумии: «Изучать человека – значит применять знания не спекулятивно, а прагматически, согласно правилам благоразумия; это и есть антропология».
2. Включение морального аспекта: «Исторический метод прагматичен, если преследует не только школьные, но и жизненные или нравственные цели».
Даже в поздний период программа антропологии колеблется между двумя полюсами:
– «Мы исследуем здесь человека не таким, каков он от природы, а чтобы понять, что он может сделать из себя сам и как его можно использовать».
– «Физиологическое познание человека направлено на то, что природа делает из него; прагматическое – на то, что он как свободно действующее существо делает (или может и должен сделать) из себя» (VII: 119).
Здесь мы видим то ограничение сферой благоразумия, то расширение её до морального «долженствования». Однако принципиальное обсуждение морали как таковой остаётся за рамками антропологии – ни в лекциях, ни в книге 1798 года оно не встречается.
Моральная проблематика становится обязательной, когда речь заходит о характере как образе мыслей. Уже в ранних лекциях (по записи Паровa) подчёркивается:
«Мы спрашиваем лишь о том, как человек использует свои силы и способности, к какой конечной цели их применяет. Чтобы определить характер человека, нужно знать цели, заложенные в его природу. Все человеческие характеры моральны, ибо мораль – это наука о целях, которыми мы направляем свои силы» (с. 307).
Хотя антропология эмпирична, она должна учитывать разумную природу человека и его конечную цель. Так, в рукописи Ms. 400 анализируется добрая воля и набрасывается этика, свободная от теологии:
«Тот, кто добр по своему образу мыслей, действует согласно моральным понятиям или принципам. Но как эти понятия, принадлежащие рассудку, могут стать побуждением? Они способны “пробуждать” чувство, служащее мотивом» (с. 589).
В другом месте говорится об «уважении к закону»:
«Многие народы допускают дисциплину, но лишь под принуждением, а не из уважения к всеобщему закону. Свобода, основанная на уважении к закону, согласуется с любой свободой, а произвол – нет» (с. 665).
В педагогическом разделе той же рукописи подчёркивается:
«Осознание достоинства человечества в собственной личности – высшая ступень воспитания, граничащая с юношеским возрастом. Юноша должен изучать позитивные обязанности: сначала перед человеческим родом, затем перед гражданским порядком. Здесь важно соблюдать два правила: послушание и уважение к закону. Послушание не должно быть рабским – только осознанным» (с. 837).
Различие между действием из долга и из склонности особенно ярко проявляется в сравнении мужчин и женщин:
«Женщины более склонны к игре, чем к серьёзным занятиям… Они не хотят знать о долге; для них всё должно основываться на доброте и снисхождении» (с. 770).
Большинство людей, отмечает Кант, руководствуются чувствами, а не принципами, и не способны сформировать устойчивый характер. В лекциях это звучит откровеннее, чем в книге 1798 года:
«Цветные народы и женщины не могут быть активными законодателями в царстве целей, ибо от природы следуют не принципам, а примерам и эмоциям».
Прагматическая антропология не нуждается в дополнении идеей Бога, которая в других работах Канта («Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения») обеспечивает надежду на соразмерность морали и счастья. В историко-философском фрагменте Ms. 400 высшее совершенство человечества связывается с подчинением лишь голосу совести – «заместителя божества» (с. 733). В записи Мронговиуса добавлено:
«В школе необходимо уделять внимание “основательному религиозному воспитанию как фундаменту морали и её завершению”» (с. 132).
Однако в самой антропологии эти утверждения не находят ни подготовки, ни подтверждения.
4. Определение человека.
В письме к Карлу Фридриху Штёйдлину от 4 мая 1793 года Кант пишет, что в своих трудах по чистой философии он стремился ответить на три ключевых вопроса:
1. Что я могу знать? (метафизика)
2. Что я должен делать? (мораль)
3. На что я могу надеяться? (религия)
К этим трём позднее добавился четвёртый:
4. Что такое человек? (антропология, которую я уже более двадцати лет преподаю в университете) (XI: 429).
Однако важно отметить, что прагматическая антропология не относится к сфере чистой философии. Более того, сам Кант, судя по всему, не отождествлял антропологию, которую он преподавал, с той, что должна дать ответ на вопрос «Что такое человек?». В сохранившихся конспектах его лекций по антропологии этот вопрос никогда не фигурирует как центральный.
Хотя в работе «О познании человеческого духа» (Menschenkunde) встречается рассуждение:
«Но если я спрашиваю, что такое человек, я не могу сравнивать его с животными» (p. 8-9),
а в записях Коллинза на полях мелькает формулировка:
«Что есть человек?» (p. 102),
показательно, что в Петербургском конспекте перечислены только первые три вопроса (известные также из «Критики чистого разума», III: 522; A 805), но четвёртый отсутствует.
Вопрос о сущности человека, восходящий ещё к Платону, предполагает поиск неизменной природы человека. Однако антропология не может дать такого внеисторического определения. Вместо этого Кант предлагает динамическую концепцию – «определение человека», которое рассматривается в его лекциях как завершающий раздел прагматической антропологии.
В наиболее чёткой формулировке 1798 года:
«Смысл прагматической антропологии в отношении определения человека и характеристики его развития заключается в следующем: человек предназначен разумом жить в обществе и через искусство и науку культивировать, цивилизовать и морально совершенствовать себя, несмотря на сильнейшие животные склонности к пассивному подчинению соблазнам комфорта и благополучия (которые он называет счастьем). Напротив, он должен активно, в борьбе с препятствиями, порождёнными грубостью его природы, утверждать своё достоинство как человека» (VII: 324-325).
Это «определение человека» отличается от подхода Иоганна Иоахима Шпальдинга (1714–1804), автора одноимённого сочинения (1-е изд. 1748), который рассматривал индивидуальную судьбу (с соответствующим вопросом: «Что есть я?»). У Канта же речь идёт о человеческом роде в целом.
Импульс к расширению антропологии за счёт философии истории исходил от Руссо, который во «Втором рассуждении о неравенстве» (примечание X) говорил о «способности к совершенствованию как специфическом свойстве человеческого вида».
Таким образом, прагматическая антропология не сводится ни к поиску сущности человека, ни к определению отдельного индивида, но раскрывает историческое предназначение человечества – его движение от первобытного состояния к будущему совершенству.
Антропология и философия истории.
Лекции по антропологии становятся для Канта местом, где он развивает свою философию истории – не в ранних курсах (1772/73), но уже в первых задокументированных лекциях после «прагматического поворота» (1775/76). Эта тема остаётся частью антропологии, даже когда получает отдельное оформление в работах вроде «Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784).
Кант сравнивает историю человечества с космогонией: подобно тому, как небесные тела формируются под действием притяжения и отталкивания, люди объединяются в семьи (а позднее – в народы), но одновременно отталкиваются друг от друга из-за несовместимости и естественной склонности ко злу:
«Желания, ревность, недоверие, насилие, враждебность к тем, кто вне семьи – всё это имеет основание и соотносится с целью. Цель Провидения такова: Бог желает, чтобы люди заселили всю Землю».
Эта механика сил приводит к тому, что человечество расселяется по планете (в соответствии с монотеистической теорией происхождения). Далее неустойчивость собственности вынуждает людей создавать государства. Не общительность, а конфликтность ведёт их к гражданскому обществу, а взаимное недоверие обеспечивает его сохранность.
Стремление к признанию развивает таланты, а давление общественного мнения принуждает к нравственности. Так «хитрость природы» заставляет человека развивать заложенные в нём задатки совершенства (Ms. 400, p. 678-738).
В «Menschenkunde» утверждается:
«Прогресс истории в целом необратим – от зла, которое противоречит самому себе, к добру, которое самосогласовано и потому устойчиво. Как моральное зло служит побуждением к добру, так и физические страдания – стимул к деятельности, особенно необходимый, поскольку человек по природе ленив» (p. 369).
Человек как существо культуры и морали.
Философия истории – часть антропологии, потому что человек вступает на природную сцену как недостаточное существо, ещё не определившее себя, но призванное через культуру, цивилизацию и мораль реализовать свою чувственную и разумную природу.
В эпоху лекций Ms. 400 (1770-е) у Канта ещё нет разработанного критического понятия идеи, позволяющего чётко сформулировать путь от настоящего к будущему как замысел природы и нравственную задачу. Нет и соответствующего различия между природной целью и конечной целью.
Техника и прогресс.
В отличие от Фрэнсиса Бэкона, Кант не связывает прогресс с развитием техники и экономики. В его лекциях технические новшества упоминаются лишь вскользь – например, лентоткацкий станок, шелкомотальная машина и лесопилка обсуждаются в разделе «О лёгком и трудном» с замечанием:
«Любопытно, что монархи часто запрещают машины, потому что они слишком облегчают труд. У нас, например, запрещён лентоткацкий станок, так как один человек с его помощью делает работу десяти, оставляя остальных без заработка».
Отмечается, что англичане особенно искусны в создании точных инструментов, но в целом кажется, что человечество уже достигло предопределённого природой технико-экономического уровня. Теперь ему предстоит завершить правовое оформление общества и перейти к моральному совершенствованию.
Высшее благо и будущее человечества.
Заключительные разделы «Антропологии» (1798) посвящены «высшему физическому благу» и «высшему морально-физическому благу» (VII: 276–277).
В «Антропологической характеристике» предназначение человечества определяется как постоянное движение к моральному совершенству и реализация идеи «постепенной организации землян в единую систему космополитического единства» (VII: 333).









