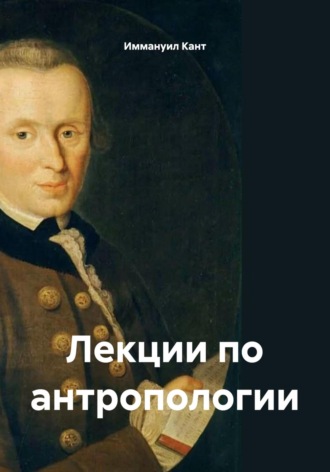
Полная версия
Лекции по антропологии
Глупость – ступень к безумию. Глуп тот, кто шутит неуместно. Если старик резвится по-детски, он глуп; но для детей такое поведение – не глупость. Глупость зависит не от объекта, а от личности и обстоятельств. Это весёлость, а глупые люди – потешны и становятся предметом насмешек.
Расстройство и помешательство не слишком различаются, разве что последнее – высшая степень и неизлечимо. Глупость можно противопоставить безумию. Расстроенный человек либо глуп, либо безумен. Последний – неистов, зол, охвачен аффектом. Глупец же просто играет своей фантазией.
Через множество оттенков мы приходим к людям, которых видим вокруг и находим в собственной груди. У каждого есть своя доля глупости, и прав был тот, кто сказал: "Людей следует считать скорее глупцами, чем злодеями". Мир похож на огромный дом умалишённых.
Фонтенель говорил: "Весь мир полон дураков, но умным слывёт тот, чья глупость относится к самому распространённому разряду. А того, кто действует согласно своей собственной глупости, считают дураком".
Английский Зритель проводит различие между разумным человеком и глупцом: "Глупец вслух говорит всё, что думает; умный же сначала пропускает мысли через цензуру, говорит лишь то, что соответствует его цели, и делает это в подходящем месте. В остальном же между их образом мыслей нет существенной разницы".
Различие между глупостью и дуростью.Глупость – это нелепость, которая ни вредна, ни порочна.
Дурость – это нелепость, которая и вредна, и порочна.
Следовательно, дурак неизбежно вредит своей дурью и противоречит добрым нравам. Например, высокомерного человека справедливо называют дураком – нет лучшего слова для этого нелепого тщеславия. Ведь каждый, даже без особого желания, стремится унизить, осадить и оскорбить такого человека.
Дурость – самая странная форма нелепости, поскольку она лишает человека собственной выгоды и мешает достижению его же целей. Возьмем, к примеру, скупого скрягу. Он действует вопреки своей же цели: стремится к обладанию богатством, но не пользуется им. Разве такой дурак не живет в бедности, чтобы умереть богачом?
Высокомерие – тоже разновидность дурости. Нужно соблюдать разумную меру в поведении, то есть равенство в степени уважения к другим. Если я переступаю эту грань, это еще не дурость, но может быть глупостью – например, если кто-то из тщеславия пытается подольститься.
Щегольство роскошными нарядами, изысканными яствами и прочим, когда едва хватает средств на жизнь, – это глупость. То же самое, если кто-то из тщеславия гонится за почестями, любит быть в центре внимания, стремится сидеть во главе стола. Что ему это дает? Но, по крайней мере, никому не вредит.
Дурость же – это выбор самых нелепых средств для достижения цели. Например, люди, перешедшие из низкого сословия в высшее, принимают важный и напыщенный вид. Они не знают, как держать себя, куда девать руки и ноги. Таких стоит высмеивать при каждом удобном случае. Если такой «важный господин» идет по улице, озираясь, не смотрят ли на него из окон, непременно найдется тот, кто захочет подшутить над ним. Достаточно малейшего повода – и все хохочут во весь голос.
Можно спросить: не лежит ли в основе большинства пороков просто дурость? Может, люди не так злы, как кажется? Нелепость, в которую они впутываются, бывает вредной и достойной порицания, но зло они творят лишь косвенно.
Демокрит смеялся над современниками, которые так любили щеголять – в них сплошная глупость и нелепость. Люди прикрывают свои глупости блестящей мишурой. Лорд, который утром в парламенте с серьезнейшим видом трудится на благо государства, уже днем возвращается домой и развлекается игрой в мяч или бильярд.
Общая цель многих трудов – сделать будущее удовольствие ярче и приятнее. Часто усердие прилагается ради того, чтобы потом бездельничать и отдыхать. Не благородство, а будущий комфорт толкает людей на поступки. Отсюда и горькие слезы, когда у человека отнимают его удобства.
В Испании люди просят подаяние… румяна, если у них их нет. Как бы смешно это ни казалось, они не считают это позором – таков уж их обычай. Карибы позволяют женам разрисовывать себя угольной пылью и красками по несколько часов. Если работа еще не закончена, а кто-то спрашивает о нем, он не показывается, а жена говорит: «Господин еще не одет» – хотя сами они ходят совсем нагие.
Мы часто удивляемся, как люди превращают излишества в необходимость, но сами поступаем не лучше. Жизнь могла бы быть очень приятной, если бы исчезли тщеславие, честолюбие, церемонии и всякое принуждение. Сколько неудобств доставляет одна только пышность одежд!
Тщеславие – большая глупость, чем желание наслаждаться, ведь последнее хоть что-то реальное собой представляет. Как был прав Демокрит, рассматривавший людей не с серьезной, а со снисходительно-насмешливой стороны!
Как было бы полезно, если бы в городе никто не стеснялся друг друга: если бы зимой можно было ходить в шлафроке, а летом – в холщовом кафтане.
Люди редко действуют по принципам, а если и действуют, то единственный их принцип – честность или некая порядочность, которая касается не сути поступка, а лишь формы. Человек поступает так, чтобы не вредить другим.
«Достигнуть высот в честности» – пустые слова. Это лишь значит «точно соблюдать меру», ведь стоит хоть раз солгать – и ты уже плут, а не честный малый. А ведь все люди должны быть таковыми.
«Великий» и «человек» – странное противоречие. Серьезность – не истинное свойство человека. В ней он не в своей природе, не в своей стихии. Его стихия – шутки и смех. Серьезность и важность, кажется, ему не свойственны.
Остроумный человек оживляет все общество и желанен в нем. Чем больше люди познают мир, тем больше шутят. Молодые люди в первые годы жизни серьезны. Склонность к смеху растет с годами, и старики готовы хоть целый день шутить и смеяться.
В юности человек еще не видит мишуры заслуг – и хорошо, ведь иначе у него не было бы побуждений развивать свои силы. Поэтому все кажется ему серьезным и важным. С годами же все видится в истинном свете, сквозь смех. Если взглянуть на все человечество, серьезность окажется притворством и натянутостью. Шутки, смех, веселье – наша естественная склонность, наша истинная жизнь.
Задача моралиста – не действовать против человеческой природы, а приспосабливаться к ее склонностям и представлять добродетель в привлекательном свете. Его цель – не изображать добродетель как тяжкий долг, а пробуждать радость от ее исполнения. Не потому, что есть судья, а потому, что она делает жизнь приятной и сама по себе совершенна (да и в самом деле, она не трудна для того, кого еще не испортила глупость).
Эпикур, кажется, так и учил, хотя ошибался в определении истинной ценности добродетели. Пороки нужно не клеймить ненавистью и проклятиями, а выставлять смешными. Как позорные, они вызывают отвращение, но как нелепые – становятся предметом насмешек.
Большинство людей совершают пороки не из злорадства, а чтобы сделать жизнь приятнее. Никто не стал бы воровать, если бы не думал, что это легкий путь к удовольствиям.
Человека больше задевает презрение, чем ненависть или отвращение. Презрение для него невыносимее всего. Если его ненавидят, он может это вынести, ведь другие из-за него раздражаются и негодуют. Но если его презирают – он никому не мешает, он безразличен, о нем и не думают.
Причина, почему презрение ранит сильнее ненависти, в том, что презирают то, что не имеет никакой ценности, а ненавидят то, что, хоть и плохо в сравнении, но может иметь много достоинств. Ненавидят то, что вредит, но не презирают. Храброго врага можно ненавидеть, но не презирать.
Лучший способ сделать пороки достойными презрения – выставлять их смешными. Насмешливый тон писателя в описании пороков имеет много преимуществ: он не только роняет порочного человека в глазах других, но и делает чтение приятным. Люди охотно читают о смешных проявлениях пороков.
Ненависть к порокам, выраженная в гневных обличениях, порождает презрение ко всему человечеству и множит мизантропов. Поэтому Христос мудро сказал: «Не судите…»
Нужно видеть вещи в их природе. Многие набожные люди становятся мизантропами, потому что не следуют этому правилу. Другие же слишком гордятся своей добродетелью, хотя им никогда не доводилось подвергать ее испытанию.
Иная женщина может до самой смерти тщеславиться своей скромностью и прочими добродетелями – просто потому, что ее никогда не соблазняли.
Конечные цели людей часто по-детски наивны. Человек и сам это понимает, но никогда не бывает так серьезен в целях, как в средствах. Единственная подлинная честность – это нечто разумное и серьезное в этом мире.
Сочинения Филдинга написаны в насмешливом тоне. Отбросьте всю серьезность – и какие только глупости не выйдут наружу!
Все церемонии, если вдуматься, всегда содержат что-то смешное и непристойное для разумных существ. И сколько глупостей ими прикрыто! Когда лорд-мэр шествует по улице, перед ним несут скипетр – странная церемония, не правда ли? Каких только формальностей не соблюдают при вручении титулов!
Зачем, например, когда двое обручаются, нужно оглашать это по всему городу – с барабанным боем, в каретах, с церковных кафедр? Они могли бы договориться тихо, между собой. И все же в таких случаях люди принимают самый степенный и важный вид. Удивительно, как они удерживаются от смеха!
Цицерон говорил: «Я удивляюсь, как два авгура, встретившись на улице, могут удержаться от смеха».
Рассказывают об одном народе, который постоянно смеется. В какое бы время ты ни пришел, они всегда хохочут. Это бедный народ, но довольный своим положением и по-своему гордый.
Серьезность как средство шутки не всегда уместна, но и постоянный смех невыносим – он лишает общение всякого вкуса. Беспричинный смех не заражает других. Смех заразителен и быстро распространяется. Человек охотно смеется, если есть хоть какой-то повод, и все ему противно, если он не может разделить веселья.
Радость разливается, как неудержимый поток, по всем сердцам. Если кто-то искренне весел, все вокруг ему вторит, все ощущают удовольствие, все тронуты приятностью. Но если кто-то начинает рыдать и вопить, все разбегаются – разве что остаются, зная, что за слезами последует смех (как часто бывает у женщин).
Самый серьезный человек, рассуждающий о важных делах, будь у него достаточно денег, бросил бы службу и присоединился к обществу, где смеются от души.
Бодрый и живой ум всегда желанен в компании. Человеческий род создан скорее для веселья, радости и хорошего настроения, чем для хмурости.
О вечере, где смеялись от души, вспоминают куда дольше, чем о том, где подавали изысканные блюда.
Те, кто не занят серьезными делами, показывают, что веселье – истинная стихия человека. А те, кто погружен в важные занятия, порой впадают в уныние.
Человек по своей природе склонен к шуткам и хорошему настроению. Вот истинные заслуги, которые он может приобрести в веселье.
Человек привязан ко множеству глупостей, но настоящим глупцом он становится, когда возводит их в ранг важных вещей.
Кажется, будто наша земля – огромный дом умалишенных, куда со всей вселенной свозят дураков на карантин.
Кто-то назвал ее «общей свалкой всего мироздания», куда сбрасывают весь хлам, непригодный в лучших мирах.
Тристрам Шенди хорошо писал о «коньках» (увлечениях): у каждого человека есть любимое занятие, своя «игрушка». Один скачет на «коньке» редкостей и древностей, дорого платит за медаль только потому, что она, допустим, времен Карла XII. Узнав, что у другого есть такая же монета, он готов перекупить ее за любые деньги, лишь бы остаться единственным обладателем.
Другой увлечен стихосложением, жаждет славы поэта и забрасывает более важные дела.
Нерон был больше дураком, чем злодеем. Он хотел слыть величайшим мастером во всех искусствах и науках. Даже вонзая в себя кинжал, воскликнул: Qualis artifex pereo! («Какой артист умирает!»). Он восхищался своим искусством, а не императорским достоинством.
Как ребенок, играя с палкой, воображает ее конем, так и такой человек наделяет свои увлечения важностью.
Тристрам Шенди говорит: «Пусть скачет на своем «коньке» по улицам, лишь бы не заставлял меня садиться сзади».
Пусть человек сохраняет свои склонности, если только не вредит другим. Зачем нам тревожить людей из-за этого?
Мир полон глупостей, и все мы в той или иной мере дураки. Что может быть справедливее, чем прощать это друг другу?
Всегда странно представлять кого-то как «великого человека». Есть книги о «великом человеке» вообще – например, сочинение Аббта о заслугах. Стоит ли перечислять великие качества и их проявления? Лучше просто назвать его хорошим, ведь множество глупостей, неизбежно смешивающихся с малыми достоинствами, сильно умаляют его величие.
Мы все подобны карликам. У меня нет особого почтения к человеку – я лишь считаю его достойным и требую того же от него, ведь никто не велик, даже если он хорош.
Что такое человек? То, что он есть, я мог и должен был бы быть сам.
Искусственный образ добродетелей вызывает подражание. Мы должны противиться не добру, а «величию» человека.
Мораль не может показать нам человеческого величия, ведь тот, кого называют великим, просто таков по природе.
Можно говорить о «хорошем характере», но не о «величии». То, что принимают за величие, – лишь таланты: большой рост, сила, ловкость, мощь ума и разума. Но это не составляет сути человека.
О предвидении.Все различия в представлении настоящего, прошедшего и будущего предполагают идею времени. Мы повсюду изменяем положение времени. Не может быть связности в изложении, если не заглядывать вперед. Все наши способности – как чувств, так и души – практически обусловлены предвидением. Поскольку настоящее – это лишь точка, мгновение, а прошедшее составляет большую часть времени, наше познание относится лишь к прошлому и будущему. Прошлое уже не затрагивает нас, поэтому нет ничего более притягательного для человека, чем заглядывать в будущее.
Люди стремятся по каждому небесному явлению предугадать грядущие события. Лишь ученые спрашивают здесь о причинах, тогда как большинство людей – лишь о последствиях. Предвосхищение в человеческой душе возможно благодаря времени. Оглядываясь назад, мы видим лишь несколько лет – годы детства. Зато в будущее мы смотрим гораздо дальше. Будущее, поскольку оно влияет на наши действия, имеет практическое значение. Мы способны к предвидению грядущего. Будущее счастье, на которое мы надеемся, заставляет нас не бояться невзгод.
Древние говорили, что у Юпитера есть две бочки: одна полна блаженства, другая – зол. Для каждого человека он черпает из обеих порцию, смешивая счастье и несчастье. Если бы это зависело от людей, они, конечно, не стали бы чередовать их, а взяли бы сначала все несчастья, а затем – все счастье.
Турки, чтобы побудить людей к умеренности, говорят: каждому человеку отмерена порция еды; когда он ее израсходует, он должен умереть. Если он съест много за один раз, порция скоро закончится, и тогда ему придется скоро умереть. То же можно сказать обо всех удовольствиях жизни. Наши ожидания многое для нас значат: печальный конец может тревожить человека целые годы.
И все же весьма удивительно, что смерть не кажется человеку столь ужасной. Мы верим, что она всегда одинаково далека от нас. Как аллея кажется сужающейся к концу, но когда подходишь к нему, она оказывается такой же широкой, так и человек, прожив долгую жизнь, в мыслях может продлевать ее сколько угодно.
Если человек рассматривает настоящее как связь между прошлым и будущим, оно кажется ему долгим. Но если он видит в нем лишь часть своего благополучия, оно коротко. Шекспир говорит: для одного время скачет галопом, для другого – бежит рысью, а для третьего ползет, как вошь. Для человека, ожидающего должности, настоящее в тягость – оно служит лишь связью между двумя состояниями. Люди чаще всего воспринимают время как переход из одного состояния в другое, которое они считают важным.
Предвидение должно быть умеряемо разумом. Люди подвержены множеству непроизвольных предчувствий – например, при страхе, при ипохондрических фантазиях. Некоторые всю жизнь видят одни лишь предзнаменования. Однако предвидение может сделать нашу жизнь приятной и терпимой, если мы будем рисовать себе радостные перспективы.
О предчувствии.
Люди более всего стремятся предсказать свою судьбу и судьбу других. В астрономии, конечно, можно с величайшей точностью предсказывать грядущие события на много лет вперед. Но они происходят по совершенно надежным законам природы, и если их однажды точно изучить, предсказание таких событий становится столь же незначительным, как предсказание восхода и захода солнца.
Тем не менее люди всегда старались увидеть, не вплетены ли в эти явления их судьбы, и нельзя ли их разгадать по расположению звезд. Но каким злом было бы для нас, если бы мы это знали! Счастье потеряло бы для нас всякую прелесть, а несчастье стало бы невыносимым бременем. Ход мира также не мог бы продолжаться обычным образом – он прерывался бы каждую минуту, и события развивались бы иначе, поскольку человек, как свободно действующее существо, всегда пытался бы направить их к своей выгоде.
Бог пожелал, чтобы книга судеб была сокрыта от меня;
Лишь страница настоящего открыта мне.
– Поуп
Мы должны ожидать более высокой точки зрения, с которой постепенно сможем бросить краткий взгляд в будущее.
Люди также любят предсказывать погоду. Старые раны, барометр, луна, крик петуха и наблюдения за животными в этом случае – лучшие оракулы. Но и это искусство весьма несовершенно, и провидение, к нашему же благу, набросило здесь завесу. Сколько смятения породило бы это гордое знание! Земледелец, который захотел бы вести хозяйство по предсказанным правилам, часто ошибался бы, тогда как теперь, если погода неблагоприятна, он остается спокоен, приписывая это счастливому неведению.
Но важнейший аспект предвидения для человека – это определение его будущей судьбы. Сильная склонность открывать знаки будущего делает людей столь внимательными и легковерными, что они принимают малейшие вещи за события огромной важности, которые в ином случае, не ослепленные этой склонностью, презирали бы.
Между тем Мопертюи, великий астроном, говорит: хотя каждый легко понимает, что звезды не влияют на поведение человека, все же нельзя с уверенностью отрицать, не связано ли расположение светил с событиями на Земле, если бы обнаружилось, что при одинаковых созвездиях несколько раз происходили важные перемены.
Люди также верят предзнаменованиям снов и голосам животных – не из-за недостатка разума, а по силе впечатления.
О толковании снов.Естественный способ предсказания – через сны. Если причины будущего кроются в моем нынешнем состоянии или даже в моем теле (например, будущее недомогание, смерть и т. п.), то во сне я могу через смутные ощущения быть побужден к таким сновидениям, которые имеют свое значение. Так, считается, что ссору предвещает, если мужчина во сне борется с собакой, теряет булавку или иголку. Здесь ясно видно, что уже во сне желчь смешивается с кровью, и потому легко может возникнуть ссора, ибо человек уже во сне к этому подготовлен. Таким образом, причина сна должна находиться в нас самих. Если же причины снов совершенно от нас не зависят, то они ничего не значат, и душа не может о них знать.
Люди, которые много видят снов, показывают, что и наяву склонны к этому, ибо разница между бодрствованием и сном заключается лишь в силе чувственных впечатлений. Частые сновидения указывают на дурное состояние тела. Женщины много снят, хорошо запоминают свои сны и придают им большое значение. Однако точная последовательность сновидений часто приводит нас в замешательство и побуждает верить, будто во сне душа как бы выходит за пределы тела и знает о будущих судьбах.
Мудрый и опытный муж в некоторой степени обладает facultatem divinatricem (способностью предвидения): у него сильная способность суждения, он долго жил и многое испытал, поэтому может предугадывать многое через связь вещей. Говорят, министр Ильген предсказал Паткулю (казненному при Петре XII) его кончину. О Фридрихе рассказывают следующую историю: один человек, выдававший себя за пророка и обвиненный в преступлении, на вопрос короля, знает ли он, сколько тому осталось жить, ответил: «Ваш конец еще далек». Король велел его задержать, так как его преступление еще не было полностью раскрыто. Однако, чтобы опровергнуть его пророчество, его все же приговорили к виселице. Но когда казнь уже должна была состояться, в Берлин приехала принцесса Мекленбургская навестить короля. Желая сразу по прибытии показать свою милость, она остановила казнь и попросила короля исполнить ее просьбу. Тот согласился, и она попросила помиловать преступника. Король не смог ей отказать.
Если бы подобные толкования через хиромантию и другие искусства получили всеобщее признание, то все наши действия по законам разума стали бы невозможны. Наш разум погрузился бы в бесплодное смятение, и мы никогда не смогли бы руководствоваться опытом здравого смысла. Человек, уверенно ожидающий будущего счастья, безрассудно тратит деньги и не следует разуму. Допустим, предсказания имеют основания, но с другой стороны, они очень вредны, если им следовать. Лишь невежественные народы пытаются определить свою судьбу через гадания. Ученые не обладают даром предвидения – он есть только у невежд и старух. Карл IX спросил одного предсказателя: «Как долго ты сам будешь жить?» Тот, зная, что Карл – жестокий правитель, и что вопрос направлен против него, кратко ответил: «Точный день я назвать не могу, но знаю наверняка, что умру за три дня до вашей смерти». Король подумал, что это может быть правдой, и оставил его в живых.
О способности к символическому мышлению.Употребление знаков – дело величайшей важности. Есть знаки, служащие лишь средством для пробуждения мыслей, а есть и такие, которые заменяют саму вещь и восполняют недостаток понятий. К первому роду относятся слова, пробуждающие нашу способность воображения, чтобы вновь вызвать в нас связанные с ними представления о вещах. Ко второму роду – живописные образы поэтов, например, изображение зависти, ясности воздуха, красоты летнего дня, которые могут передавать душевный покой. Если в другом языке нужно выразить душевный покой, придется использовать другое слово, но образ может остаться тем же. Так и бурное море может быть образом беспокойного человека.
Таким образом, характеры и символы различаются. Представление, которое может заменяться другим, называется символом. Для сопровождения наших понятий нам необходимы слова, ибо вещи лучше познаются через чувства. Если понятия абстрактны (например, умеренность, скромность, справедливость, кротость), требуется много слов. Но в отношении чувственных представлений можно обойтись меньшим числом слов.
О собственно символах.Люди так привязаны к ним, что дети лишь через образы могут рано прийти к познанию. Гений восточных народов богат образами; их философия состоит в выборе удачных символов – отсюда иероглифы египтян. Образы – знаки невежества народа, ибо, не умея глубоко продумать вещи, люди прибегают к символам. Возвышенность восточного стиля происходит от образности. Разум казался бы слабым, если бы представления не сопровождались символами.
Образы обладают великой силой, ибо представляют сами вещи. Так, титулы, должности, заслуги, богатства представляют человека, который ими обладает. Одежда, ордена – все это символы. Даже религия полна символов, которые суть не само духовное, а лишь его образы. Однако часто случается, что люди обращают больше внимания на символы, чем на сами вещи, и в конце концов думают больше о титулах, чем о заслугах, которыми их следует заслужить.
Все формальности, церемонии, процессии – суть символические представления скрытых значений. Когда люди прощаются с теми, кто сыграл великую роль, оказал им услуги или был им дорог, они выражают это черной одеждой, звоном колоколов и т. п. Чем сильнее символы воздействуют на чувства, тем более требуется разума, чтобы раскрыть их истинный смысл.
Тот, кто говорит о людях и их обязанностях перед Богом, может быть очень образным: он может сравнить Бога с царем, а людей – с подданными. Такое представление может внушать почтение, но может и порождать заблуждения. Если нечто должно служить нам, как нить, чтобы лучше пользоваться разумом, то не следует считать его тождественным самому понятию. Однако большинство ошибок происходит именно от этого.
Если оратор уделяет больше внимания украшению речи, неожиданно прерывая ее и поражая слушателей, он демонстрирует силу искусства обозначения. Но слушатель смотрит не на суть, а говорит: «Проповедь была прекрасна». Она прекрасна символически, тогда как ее главное достоинство должно состоять в исправлении людей.









