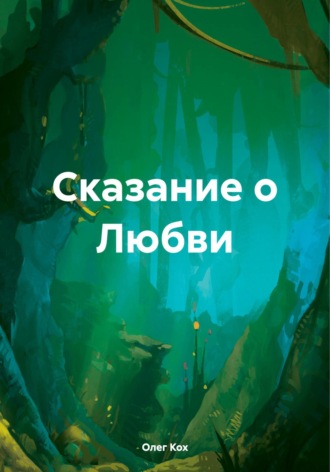
Полная версия
Сказание о Любви
(Б. Рыжий)
Глава 6. КАИ. Начало
КАИ – мое начало,
для взлета полоса.
Душа мечтать устала
и рвется в небеса.
В Казани мы с Валерой разбежались в разные стороны: он – на 5-й радиотехнический факультет, я – на 1-й факультет летательных аппаратов. Едва поселившись в общежитии № 1 на Большой Красной, я пошел в приемную комиссию и спросил, можно ли будет здесь, в КАИ, летать на самолетах, чем привел в недоумение и замешательство членов высокой комиссии. В конце концов мне разъяснили, что в КАИ учат строить самолеты, а не летать на них. Если вы прибыли с намерением летать, то вы подали документы не по адресу, вам следует поступать в авиационное училище либо, на худой конец, обратиться в аэроклуб. И ни слова об авиаспортклубе, который, как случайно выяснилось через год, действительно был в КАИ. Может быть, в приемной комиссии не знали об этом? Я пошел в аэроклуб. Там мне сообщили, что надо выбирать что-то одно: либо учиться в КАИ, либо поступать в аэроклуб, надевать военную форму и летать в качестве пилота-курсанта, что приравнивается к службе в армии. А дальше – варианты: 1) можно отслужить три года в аэроклубе и уйти в запас; 2) отлетать программу 1-го года и поступать в любое летное училище, военное или гражданское: с налетом – зеленая улица; то же самое можно сделать после 2-го года и после 3-го. Я спросил, можно ли учиться в институте и летать спортсменом в аэроклубе. Мне ответили, что бывают наборы в спортивное звено, но не каждый год, – следите за объявлениями. Что оставалось делать, решил поступать в институт, а там будь что будет. Чтобы быть поближе к самолетам и не прозевать набор в спортивное звено, решил пока заняться парашютом.
Примеры заданий по математике показались мне очень легкими, решение просматривалось невооруженным глазом, и я как-то заскучал. Да и учеба в институте не была для меня приоритетом, а в главном деле я пока терпел фиаско.
Вечером, выйдя на балкон, я сначала услышал, а потом увидел, что внизу у парадного подъезда общежития на скамейке сидят ребята и поют какие-то необычные песни. Я спустился вниз и полюбопытствовал, что это за песни такие? Имена авторов мне ни о чем не говорили: Визбор, Окуджава, Высоцкий, но песни тронули за живое. Мне сразу захотелось присвоить эти небывалые песни: не только слушать, но и петь их. Так произошло знакомство с жанром туристской-самодеятельной-авторской песни, с которой я уже никогда не расставался.
Письменный экзамен по математике написал на "5". На устном посмотрели письменную работу и, не сказав ни слова, поставили "пятерку". Я удостоверился, что зачислен на 1-й курс 1-го факультета летательных аппаратов по специальности "самолетостроение".
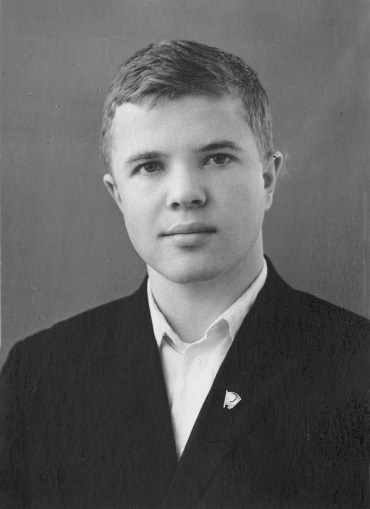
Олег Кох – студент 1 курса КАИ. 1965 г.
Узнал также, что общежитие мне не светит, так как доход в моей семье на душу превышает пятьдесят рублей. У тех, кому дали общагу, было меньше двадцати. "Господи, – подумал я, – какие бедные люди бывают на свете!" И даже пролил слезу. Позже я узнал, что только дураки представляют правдивые справки о заработке родителей. На следующий год привез фальшивую и получил законное место в общежитии. А пока я сел на поезд и покатил домой.
Занятия на 1-м курсе 1-го факультета проходили далеко от главного здания КАИ, на окраине города в районе авиационного завода. Вот там, недалеко от учебного корпуса, на улице Олега Кошевого, я и нашел квартиру.
Хозяева, муж и жена, то ли марийцы, то ли чуваши – люди спокойные, непритязательные, нелюбопытные, неразговорчивые, что меня вполне устраивало. У мужа эти характеристики были выражены в самой крайней степени. Маленький плюгавенький мужичонка неопределенного возраста, с куда-то запрятанными и какими-то закисшими глазами, он представлял бы собой неодушевленный предмет, если бы изредка не перемещался от кровати до кухонного стола и обратно. Не знаю, каким образом он общался с хозяйкой, но я не слышал от него ни единого слова, ни единого звука. Если бы он был глухонемой, то выражал бы свои эмоции с помощью мимики и жестов. Но в том-то и дело, что лицо его было совершенно статично, а руки нужны были только для принятия пищи и, вероятно, чтобы справить нужду. Он все время лежал на кровати и ходил только на кормежку. Признаков болезни он тоже не обнаруживал: не стонал, не кашлял, не принимал лекарств. В общем, это было совершенно безобидное существо, только внешне напоминающее человека. Жили мы с ним вместе и еще с клопами в отдельной комнате. Хозяйка же, наоборот, была ядреная бабенка, плотная, в меру упитанная, не старше пятидесяти, не злая, не добрая – никакая. Жила в проходном зале, в нашу комнату никогда не заходила. Психологически я чувствовал себя с ними вполне комфортно.
Надо было как-то налаживать быт, к которому я, признаться, не был готов. Посуды у меня не было, продуктов тоже, готовить я не умел. Надо было с чего-то начинать. Хозяйка разрешила пользоваться посудой, и осталось сходить в магазин за продуктами. Спросив свой организм, чего он хочет на ужин, я пошел в магазин и купил картошки. Кое-как почистил любимый продукт, включил газ, поставил на газ сковородку, нарезал пластинками картошку, немного подумал и налил в сковородку воды, закрыл крышкой и, весьма довольный тем обстоятельством, что я, оказывается, умею готовить, пошел в свою комнату дожидаться, пока поджарится картошка. Почувствовав запах гари, я распахнул дверь своей комнаты. Из кухни валил густой сизый дым. Вырубив газ и открыв крышку сковороды, я обнаружил вместо белой картошки черные угли. Почему-то я совсем не расстроился, несмотря на то что остался без ужина. И хозяйка, придя с работы, мне ни слова не сказала – верх инфантилизма, – посоветовала только: попробуйте вместо воды налить масла. В следующий раз я так и сделал – и все получилось.
А вот детки мои освоили поварское дело в туристских походах довольно рано. А куда денешься: голод, говорят, не тетка. Сын Андрей, например, в восемь лет в походе на костре пёк блины. А на первом курсе Питерского университета варил такие пахучие щи, что сбегалось пол-общаги, и вряд ли ему что-нибудь перепадало. Но ведь смысл не в том, чтобы набить собственное брюхо, а в том, чтобы спасти от голода кучу страждущего народа.
Быт я худо-бедно наладил, а вот с клопами подружиться не сумел. Мужичка они, как своего, не трогали, – может, у него кровь была другого цвета? – и со всем энтузиазмом накинулись на меня. Эти кровожадные насекомые чувствовали себя как дома: ничего и никого не боялись и разгуливали по стенам и потолку даже среди бела дня. А ночью они, как штурмовики, пикировали с потолка на спящий объект. Я включал свет, отлавливал их десятками и методично и бесстрастно давил на подоконнике, разбрызгивая собственную кровь. И так за ночь несколько раз. Самое удивительное то, что внутренне я смирился с таким соседством: смешно ведь раздражаться и обижаться на этих маленьких, тощих, плоских насекомых – им ведь тоже есть хочется. Хозяева терпят, а чем я хуже?
Однажды – кажется, это были выходные – к хозяевам приехали гости из деревни – муж и жена. То ли какая-то родня, то ли просто знакомые. Понятно, устроили на радостях праздничный ужин. Позвали и меня, но я почему-то отказался: наверно, подумал, что неприлично сразу соглашаться. Но второй раз приглашать не стали. Застолье как застолье: самогон, закуска, разговоры – все чинно, мирно, со знанием дела. И мужичонка восседал за столом наравне со всеми, и самогон прилежно выкушивал. Для меня, само собой, вечер был безвозвратно потерян. Ничего делать я уже не мог, и мне оставалось только сидеть и сквозь закрытую дверь слушать звонкий бульк наливаемой самогонки и аппетитный хруст ядреных, домашнего посола огурцов. Мне было и жалко, что я добровольно и опрометчиво отказался побаловать себя деревенскими разносолами, и любопытно посмотреть, как это делают другие, поэтому я чаще, чем того требовал организм, бегал в туалет, осторожно открывая дверь в зал и протискиваясь между стеной и сидящими за столом гостями.
Любой праздник когда-нибудь да кончается. И этот в конце концов завершился. И, на удивление, без пыли и без драки. Завершился, прямо скажем, бездарно и прозаично. Стоило ли пить самогонку? Как-то без суеты, по-деловому, убрали посуду и на полу, где только что стояли стол и стулья, размахнули пуховую перину и, умиротворенные принятыми питием и яствами, улеглись в таком порядке: варяжский гость посередине, женщины по обе стороны от него. Мой мужичок как ни в чем не бывало приковылял на свое постоянное лежбище, причем ничто в нем не изменилось: тот же бессловесный облик, те же закисшие глаза. Ну хоть бы огонек блеснул, просто робот какой-то. Что делать, и я, не солоно хлебнувши, отправился смотреть голодные сны.
И вдруг среди ночи – шум, гам, какая-то возня. Что такое?! Уж не клопы ли начали буянить? Ан нет: это две женщины с победоносными воплями таскают друг друга за волосы. Оказывается, гость, вкусив материальной пищи, ощутил острую потребность в духовной и, вероятно, в знак признательности за оказанный теплый прием, решил уважить хлебосольную хозяйку. Законная супружница, не оценив жертвенного порыва суженого, устроила постыдную потасовку. Да ведь не виновника принялась бутузить, а совершенно невинного человека. Хоть и греховодник, а – свой, авось пригодится еще. А "свой" стоит и, как и положено самцу, спокойно ждет, кто кого одолеет и, следовательно, кто ему достанется.
Казалось, что после такой драматической развязки гостям ничего другого не оставалось, как ретироваться "по старой смоленской дороге", не претендуя даже на законный посошок. Как бы не так: женщины, вполне удовлетворенные клочками выдранных волос и полученными тумаками, как ни в чем не бывало улеглись, как и прежде, по обе стороны виновника драмы, используя его, очевидно, в качестве живого барьера. Дохнуло чем-то языческим: так, вероятно, когда-то без всяких ханжеских предрассудков и частнособственнических инстинктов жили наши предки. Ну вот, а я уж, грешным делом, подумал, что попран один из основных вселенских законов, а именно: закон сохранения энергии, и драгоценный энергоноситель истрачен зря. А нужно было всего-навсего набраться терпения и дать возможность внутренней энергии спокойно, с достоинством перейти во внешнюю. Все опять-таки завершилось мирно, и остаток ночи участники спектакля, а также свидетели его провели, вполне удовлетворенные исходом.
Начались занятия. Идти до учебного корпуса было недалеко, нужно было только пересечь парк. Учебная группа – 25 человек по плану; кажется, было больше. Казанских – трое или четверо. Кроме меня, еще два человека снимали квартиру на той же улице Олега Кошевого: Толик Батманов и Гена Климов. Остальные жили в общежитии на улице Короленко. Это довольно далеко, приблизительно посредине между нашим учебным корпусом и главным зданием КАИ. Я часто заходил к Толику с Геной. Жили они в дружной рабочей семье из четырех человек, занимали одну комнату в трехкомнатной квартире, питались вместе с хозяевами. Вскоре меня пожалели (хотя я вроде не жаловался) и предложили пополнить их веселую компанию. И действительно, жить стало веселей. Толик Батманов, серьезный молодой человек атлетического сложения – после армии, – взял над нами шефство: утром, перед занятиями, – зарядка, пробежка в парке, завтрак и – на лекции. Гена Климов удивил меня тем, что имел фотоаппарат и, несмотря на юный возраст, был искушен в тонкостях этого волшебного искусства. Он сразу обрушил на меня все свои познания в области фотографии, и мне ничего не оставалось, как пойти в магазин и купить семидесятидвухкадровый фотоаппарат "Чайка".
В один из теплых солнечных дней той осенней поры, которую в средней полосе принято называть бабьим летом, небольшая компания из пяти человек отправилась в воскресное путешествие в окрестностях Казани. Кроме меня и Валеры Марушева, были две Гали, одиннадцатиклассницы, и десятилетний брат одной из Галь, которая к тому же приходилась Валере дальней родственницей. Проводниками нашими, на правах аборигенов, были девчонки. Жили они в том же районе, что и я, то есть на окраине Казани. Поэтому нам не пришлось пользоваться городским транспортом, и прогулка наша от начала до конца была пешеходной. Мы шли по лесной дороге, пересекали какие-то поляны, потом опять углублялись в лес, где-то жгли костер, наверное, что-то ели.
Можете себе представить состояние человека, который никогда не видел настоящего леса. И что значит просто идти по дороге без всякой цели весь день? Для меня все было нереально, как во сне, как в сказке. На обратном пути, когда солнце уже ушло за вершины деревьев, я отстал от ребят, отошел от дороги в глубь леса, лег навзничь на мягкий мшистый ковер из желтых листьев, закинул руки за голову и стал смотреть в голубое небо, куда уносились белые березовые стволы. Как живо играли березы переливающейся в лучах заходящего солнца золотой листвой. И вдруг я почувствовал, что я – дома, что мне никуда не надо и, главное, не хочется уходить. И позже, когда я стал заядлым туристом, это чувство ни разу не обмануло меня.
Наверное, во все времена студенческая жизнь имела два основных аспекта, две главные составляющие, две ипостаси, что ли: главную и второстепенную, обязательную и необязательную, приятную и не очень – то есть часть жизни, связанную с учебой, и другую часть, непосредственно с учебой не связанную. У каждого эти две части соотносились по-разному. Кто-то большую часть времени, сил и души отдавал главному поприщу (имеется ввиду постижение наук), другие – наоборот. Как бы мне ни хотелось говорить об обязательной стороне студенческой жизни, начну именно с нее, так будет правильно. А потом уж, сбросив обременительный груз, налегке отправимся в увлекательное путешествие по различным студенческим странам и континентам.
Пытаюсь вспомнить и представить своих однокурсников, преподавателей и, главное, себя и свое состояние именно в первые дни учебы, свое отношение к главному делу, ради которого все это вокруг нас организовалось и затеялось, осознать, что же с нами, вчерашними школьниками, произошло, зачем мы пришли в этот храм с звучным названием Казанский авиационный институт и кем станем после его окончания. До сих пор не могу понять, почему я сразу не задал себе эти простые, естественные и самые насущные вопросы и даже не пытался это сделать. Не пытался хотя бы в общих чертах представить спектр возможных приложений и использования знаний, полученных в КАИ, не пытался ответить на простой, но важный вопрос: нужно ли это мне?? И что вообще мне нужно? И наши наставники не очень старались нам это разъяснить. Помню, что из их уст не раз звучала расхожая, но мало что объясняющая фраза: "Выпускник КАИ может работать везде: от директора завода до директора совхоза". Причем произносилась она с гордостью и апломбом. В этом случае я соображал, что если действительно представится такой выбор, то я бы пошел директором совхоза, так как роль последнего я хотя бы приблизительно представлял и так же приблизительно знал, как ее достичь. А вот как добраться до высот директор завода, я не имел ни малейшего представления.
Не говорили нам и то, что подавляющая часть выпускников будет нести службу на боевом посту мастера участка и что главной боевой задачей и главной зубной болью его будет правдами и неправдами выполнить ежемесячный план, причем часто в таких условиях, когда нормально и достойно этот план выполнить невозможно. И уж, конечно, не принято было говорить, что значительная часть нашего брата должна будет выполнить свой патриотический долг, то есть отслужить два года в рядах доблестных вооруженных сил – зря что ли тебя дрессировали на военной кафедре. И благо, это было бы сразу после учебы. Тебя могут выдернуть из налаженного русла бытовой, семейной и профессиональной жизни в любой исторический момент, когда ты этого меньше всего ожидаешь. И этот дамоклов меч может висеть над тобой всю сознательную жизнь. Ни от кого, кому пришлось хлебнуть армейской баланды, не слышал я восторженных всхлипов, а вот о том, что офицеры с военных кафедр – изгои в армейской среде, – довольно часто. Ничего удивительного: люди с заметными следами интеллекта на лице в подобных средах – белые вороны, которых так и хочется клюнуть, ну просто мочи нет, как хочется.
Случалось, и судьбы калечили. Жил на нашем курсе поэт Коля Д. Неисправимый романтик и уж совершенно патологический патриот, человек с обостренным чувством правды. Не обычной, обыденной, а какой-то глобальной, исторической что ли правды. Я всегда удивлялся, как в нем уживались поэт и технарь. Лично я технику не любил (правда, не сразу это понял), а патриотизм вообще считал, мягко говоря, лишним, провинциальным и, по существу, ложным чувством. Однако мы были с ним близки: он, как многие деревенские, был прост в общении и, невзирая на некоторые странности, вполне простительные для поэта, обладал неким магнетизмом.
Он распределился на Горьковский авиационный завод и, как молодой специалист и вдобавок отец двоих детей, получил две комнаты в трехкомнатной квартире. Через два года после окончания института, когда Коля прочно встал на ноги как авиационный инженер и значительно закрепил свои позиции на поэтическом фронте, имея при этом надежные тылы в семейной жизни, его неожиданно призвали в вооруженные силы. Любой нормальный человек расценил бы этот произвол, по крайней мере, как вмешательство в личную жизнь. Любой, но не Коля. Потому что Коля был поэтом. Он быстренько сдал мне свою квартиру, чему я был бесконечно и непомерно рад, собрал монатки, схватил в охапку жену и дочек и, в крайней степени возбуждения, двинул, нет, не выполнять свой гражданский долг, не тянуть лямку – фу, какие низкие, недостойные поэта слова, – он помчался умножать доблесть и честь русского воинства.
Бог мне свидетель, что я не ерничаю и тем более не издеваюсь над святыми вещами, а говорю как никогда серьезно, тем паче, имея в поле зрения трагический финал этой истории. Ибо уверен, так оно и должно быть, как представлял себе это покойный поэт, как было всегда в русской армии и, надеюсь, и сейчас имеет место в нравственно здоровых воинских частях.
Коля писал мне восторженные письма о новом для него военном поприще, в том числе в стихотворной форме. Он писал, как он захвачен военной романтикой, как нравится ему военная форма и лейтенантские погоны, какие радужные сны ему снятся. Например, что он гордо марширует в бесконечных рядах военных людей и как над ним развеваются знамена воинской славы, и что он уже не шествует, а летит, подхваченный, как крыльями, этими знаменами. Писал также, что печатается в армейской газете и что это всячески поощряется командованием.
Не понимаю, как он умудрился так долго, в течение двух лет, пребывать в состоянии эйфории? У других (с их слов) разочарование и прозрение наступало гораздо раньше, гораздо раньше они начинали подвергаться остракизму, в силу прививки свободы, полученной ими в свободолюбивом институте, и ненужного в подобной среде чувства человеческого достоинства (ты начальник – я дурак и т. д.). Как бы там ни было, но Коле до такой степени пришелся по душе армейский образ жизни, что он решил связать свою жизнь с этим ведомством и подписал контракт на 25 лет. Вскоре после этого тональность писем резко изменилась. Не буду описывать эволюцию происшедших с Колей перемен и тем более не представляю, как ему удалось вырваться из этой структуры (наверно, приложил ПМ к виску – к своему, конечно), но он вернулся совершенно надломленным человеком, запил, в состоянии алкогольного опьянения стал обнаруживать агрессию, чего раньше с ним никогда не было, и однажды был сброшен с поезда и погиб. Так закончилась жизнь поэта-романтика, не способного на компромиссы.
Однако вернемся к вещам основополагающим. Дело ведь не в том, что после института нужно было работать мастером на заводе или служить в армии, надо – значит, надо. И многие прошли через это. И мастерами были неплохими, и план выполняли, и по служебной лестнице потихоньку поднимались, некоторые дошли и до директоров завода или их замов, и в армии служили и до генералов дослуживались, а уж до полковников – обязательно. И, конечно, не виноваты наставники: говорили – не говорили, разъясняли – не разъясняли, – разве в этом дело. Нечего сетовать на наставников, захотел бы – узнал. А я пустил все на самотек. Передо мной все еще призрачно мерцала надежда как-нибудь вырулить на летную профессию. Ну просто мания какая-то, навязчивая идея. Хорошо, что не вырулил, ибо одно дело – романтика и совершенно другое – военная служба. Далеко не каждый на это способен.
А ведь возможностей найти дело по душе с “каёвским” (стихийно сложившийся местный термин, обозначающий причастность к Казанскому авиационному институту) образованием было предостаточно. Кроме производства, были еще и всевозможные КБ и НИИ, академические институты и университеты, где можно было и преподавать, и науку двигать. В конце концов, можно было просто учиться, по-настоящему осваивать предметы, создавать интеллектуальный потенциал, а там видно будет. Но я и вкус к учебе умудрился потерять, который у меня всегда был. На лекциях мне было неинтересно, и я постепенно перестал их посещать.
Позже я не раз спрашивал себя, почему так случилось? Ведь у меня, как ни у кого, были великолепные стартовые данные для мощного взлета. Первая причина – отсутствие определенной цели. Вторая, как мне кажется, избыток свалившейся на нас свободы и дефицит ответственности. Я как бы чего-то ждал, на что-то надеялся. О том, чтобы направить свои устремления в диаметрально противоположное гуманитарное русло – например, заняться филологией, журналистикой и пр., – и мысли не возникало. А о том, чтобы попробовать свои силы на писательском фронте, боялся даже подумать. Правильный выбор профессии, поприща, на котором ты мог бы реализовать данные тебе Богом способности и которое захватило бы тебя целиком со всеми потрохами, вообще очень трудное дело и мало кому удается.
Оставим эти бесполезные абстрактные разговоры и поговорим о конкретных вещах. Как был организован учебный процесс? На первом курсе читались общеобразовательные предметы: естественные и гуманитарные. Кроме преподавателей начертательной геометрии и матанализа, не помню никого.
Первый, Лев Алексеевич Балабанов, был личностью неординарной. Чуть выше среднего роста, несколько сутуловатый, легкий и подвижный, как боксер на ринге (впоследствии мы узнали, что он действительно был боксером), он и в речи был легок и подвижен. Всегда в превосходном настроении, с неизменной улыбкой на лице и с великолепным чувством юмора, он легко завладевал вниманием слушателей, я бы сказал, приковывал к себе внимание и не отпускал до конца лекции. Материал излагал живо, образно, играючи. А ведь что такое начертательная геометрия или, как говорят студенты, начерталка? Это постоянная демонстрация теоретического материала на доске сложнейшими пространственными рисунками и чертежами, то есть эпюрами (с французского эпюр означает чертеж). Как правило, преподаватели этого предмета пользуются линейкой, циркулем и другими инструментами. Лев Алексеевич никакими инструментами не пользовался, а прямые линии, эллипсы и круги изображал безупречно. Он, например, одним взмахом руки проводил окружность на доске, другим движением ставил центр этой окружности и просил кого-нибудь проверить большим циркулем. Проверяли: идеально! – высший пилотаж. Занятия с Львом Алексеевичем всегда были занимательными спектаклями, в которых мы были не только зрителями и слушателями, но и действующими лицами. Чувствовалось, что он любит студентов. Мы платили ему тем же.
Показателен следующий случай. Как-то вечером Лев Алексеевич обходил комнаты нашего общежития с дежурной проверкой: посмотреть, как устроен быт, не злоупотребляют ли студенты алкоголем и прочее. Зашел к нам в 309-ю, поговорил с присущими ему улыбкой и юмором (в будние дни мы редко выпивали) о том о сём и пошел в следующую, 311-ю. Мы знали, что у ребят в гостях девчонки, но не знали, что они уже легли спать, притомились, наверно, после трудового дня (предупредить мы их всё равно не смогли бы). Лев Алексеевич постучал – не открывают. Еще раз, настойчиво. Открывается дверь, и разгневанный Володя Лубнин (высокий, крепкий физически парень, обладающий мощным ударом) – бац в торец незваному гостю. У Льва Алексеевича реакция боксера: увернувшись от удара, он нанес Лубнину ответный. Короче, преступная группировка была разоблачена, но никаких санкций не последовало. В оправдание Лубнина можно сказать, что у него с гостьей дела были серьезные и завершились они вальсом Мендельсона.
Второго преподавателя я запомнил не потому, что он был бледным и бесцветным – этим никого не удивишь, – а потому что он был косноязычным и как бы неуверенным в себе, и нужно было напрягаться, дабы что-нибудь понять. Наверняка, он был интеллигентным, деликатным человеком, но для преподавателя это, как говорят математики, необходимые, но далеко не достаточные качества.



