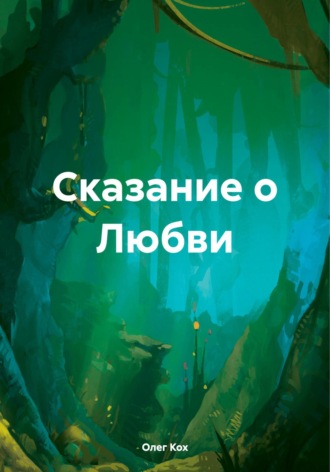
Полная версия
Сказание о Любви
Больше ни одной, сколь-нибудь выдающейся личности на двух первых общеобразовательных курсах назвать не могу. Лекции читались в лучшем случае нормальным голосом с достаточным количеством децибелов, но, как правило, монотонно, без взаимодействия с аудиторией.
Невооруженным глазом было видно, что общеобразовательные дисциплины как бы второстепенны, необязательны. И со стороны студентов отношение к ним было соответствующее: скорее бы перевалить через этот злополучный перевал из досадных и никому ненужных предметов. Но ведь именно этими предметами закладывается фундамент, и не только научный и инженерный, но и культурный. Многие спецпредметы, насыщенные высшей математикой и физикой, понимались студентами в лучшем случае поверхностно, интуитивно и буквально заучивались для сдачи экзаменов, а потом благополучно забывались, как кошмарный сон. Поэтому советская инженерия потеряла творческое начало, утратила основную функцию, содержащуюся в слове “инженер”, – человек, создающий что-то новое. На заводе инженер стал толкачом, портным, кое-как сшивающим концы с концами, диспетчером, администратором, начальником; в КБ – преимущественно чертежником; в НИИ – перекладывателем бумаг из одной стопки в другую, – кем угодно, только не творцом.
И только единицы соответствовали слову инженер и оправдывали это высокое звание, но не столько благодаря глубоким и прочным основам, приобретенным в вузе, сколько благодаря самообразованию и разгадыванию когда-то непонятых ребусов и кроссвордов, содержащихся в изящных математических выкладках и физических законах. И приходило запоздалое прозрение, и из груди невольно вырывался восторженный вопль: "Надо же! Оказывается, это так просто и так красиво!" Недаром в сознании студентов, а позже и выпускников укоренились антитезы, не однажды изрекаемые сначала отцами вузов – неоперившейся студенческой братии, а затем корифеями производств – молодым специалистам. Одни говорили: "Забудьте все, чему вас учили в школе!" Другие: "Забудьте все, чему вас учили в институте!" Вот как я могу ответить на эти антитезы: более глубоких и основательных знаний и по естественным, и по гуманитарным дисциплинам, чем в трех школах, в которых я учился с неподдельным интересом, я нигде не получил: ни в институте, ни даже в аспирантуре. Поэтому я их не только не забыл, но и постоянно использовал в своей работе.
Настоящих специалистов среди преподавателей КАИ (не только ярких ученых, профессоров, докторов наук, но и талантливых педагогов) можно по пальцам перечесть. Среди них Вахитов М. Б., Одиноков Ю. Г., Воробьев Г. Н. Разумеется, взгляд у меня весьма ограниченный и сугубо субъективный, особенно на чисто научные достижения, а они, несомненно, имели место. Но ведь мало обладать могучим научным потенциалом. Не менее важная задача, а может быть, и главная: заинтересовать, зажечь студентов, научить их летать, а не ползать, дать почувствовать красоту и изысканность той или иной науки. А это может сделать только преподаватель. Перефразируя Некрасова, можно сказать: "Ученым можешь ты не быть, а преподавателем быть обязан".
Скажу больше: преподаватель не только сам должен обладать мощным нравственным, интеллектуальным и культурным потенциалом, но и открыть глаза студентам на красоту и многообразие окружающего мира, показать, что мир един и неделим и что все в нем взаимосвязано: история, музыка, литература, изобразительное искусство, архитектура, наука, инженерия – все виды деятельности человека, все стороны человеческой жизни, все грани личности двуногого существа из породы homo sapiens. Он должен объяснить студентам, для чего мы строим самолеты, делаем ракеты. Ведь не для того, чтобы убивать! Правильно расставить приоритеты. Наконец, довести до нашего сознания, вдолбить в наши тугоплавкие мозги простую истину, что самолет будет правильно летать и нести по свету все лучшее, что накопило человечество, если у строителя этого чудо-аппарата у самого за спиной будут крылья, в голове – ясный и здоровый ум, в душе звучать музыка сфер, в очах гореть звезды, а в сердце – радостное ощущение того, что все люди – братья! Для чего же мы тогда изучали историю и литературу в школе (а жаль, что не продолжили в институте) и философию на втором курсе? И ведь это не так уж трудно. Вместо того чтобы твердить без конца, что КАИ – пуп земли и прививать тем самым никому ненужный и даже вредный квасной патриотизм, посоветовать, между прочим, посмотреть тот или иной спектакль в драмтеатре или премьеру оперы в театре им. Мусы Джалиля, сходить на концерт в филармонию, прочитать ту или иную книгу, в конце концов, самому прочитать какое-либо стихотворение из сборника, "случайно" оказавшегося в портфеле. И ведь это не нужно делать натужно, притягивать за уши. Читая лекцию или проводя другие занятия, сплошь и рядом невольно натыкаешься на какую-либо фразу из классики.
В стольном граде Казани, в многонациональном граде Казани, в студенческом граде Казани, прочно вросшем корнями в щедро удобренные историческими событиями пласты и обладающем посему богатыми культурными традициями, возможностей для образования и направления студентов на путь истинных ценностей гораздо больше, чем может вместить человек. Уверен, многие преподаватели не отказывали себе в удовольствии черпать живительную влагу из упомянутых благодатных пластов. К тому же преподаватель для студента – всегда авторитет, во всяком случае, обязан быть таковым. О себе скажу, что я этого не почувствовал. Не ощутил я даже элементарной поддержки в учебе со стороны деканата, которую этот орган единственно и призван осуществлять. И не я один. Сколько ребят, влюбленных в авиацию и пришедших в КАИ, что называется, по зову сердца, были отчислены за неуспеваемость, не успев даже понять, как это произошло. А ведь вступительные экзамены сдали все и немалый конкурс выдержали (блатных, как я понимаю, в КАИ тогда не было), – значит, могли учиться.
Но вот какой парадокс: почему же тогда выпускники КАИ ценились довольно высоко, да и сейчас, насколько я знаю, ценятся. В первую очередь, благодаря учебному плану. Ведь такого спектра сложнейших дисциплин, напичканных физикой и математикой, и такого количества курсовых проектов с чертежами по 5 – 6 листов, которые без напряжения серого вещества выполнить невозможно, вряд ли сыщешь в других технических вузах. Мне, проработавшему без малого 40 лет преподавателем на машиностроительном факультете Чувашского госуниверситета и в других технических вузах г. Чебоксары и занимавшему одно время должность проректора по учебной и научной работе одного из них, есть с чем сравнивать. Во-вторых, благодаря высокому потенциалу студентов КАИ, и не только техническому. И, в-третьих, благодаря нашим учителям, хорошо знавшим свой предмет. Хотя, как я уже говорил, не всегда умевшим ярко и вдохновенно донести его до слушателей.
Это я сейчас ворчу, как геморроидальный старик, и скриплю, как несмазанная телега, взирая на все эти дела со своей преподавательской колокольни. А тогда я жил вполне безмятежно и счастливо и ни в какой поддержке, опеке и в каких бы там ни было разъяснениях не нуждался. Я был даже горд, что являюсь студентом прославленного, элитного, да еще и авиационного вуза. И, чтобы подчеркнуть свою причастность к избранному заведению, купил в военторге военную рубашку защитного цвета, прицепил к концам воротника две летных птички и два года с гордостью носил ее.
А теперь вспомним о другой, для многих более привлекательной ипостаси студенческой жизни. Недаром принято говорить, что студент чем только не занимался: пел, плясал, ходил в походы, невзирая на погоду, а в свободное от приятных занятий время даже и учился, как поется в старинной студенческой песне: "От Евы и Адама пошел народ упрямый, такой неунывающий народ: от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год". Совершенно непонятно, откуда у студентов вдруг ни с того ни с сего появлялись и начинали бить мощные родники всевозможных талантов. Здесь были артисты всех жанров, музыканты, играющие на всех инструментах, композиторы, певцы всех тембров и музыкальных диапазонов, дирижеры, поэты, чтецы, сценаристы, режиссеры, танцоры, юмористы, художники, строители, спортсмены, туристы… – и прочая и прочая. Была даже своя киностудия "КАИ-фильм".
Не надо забывать, что это было время после двадцатого съезда партии, когда был развенчан культ личности Сталина, и люди вздохнули свободно и обрели надежду на нормальную человеческую жизнь и свободное, неподцензурное творчество. Людям разрешили открыто высказывать собственное мнение без боязни быть преследуемыми. Это было время брожения умов и кипения страстей, мощного выброса интеллектуальной и творческой энергии и энтузиазма. Позже это время назвали Оттепелью, а энтузиастов Шестидесятниками. К сожалению, власти довольно быстро опомнились и стали закручивать гайки, бросили все силы на погашение очагов и источников этой энергии и зело в этом преуспели. "Да нам-то что: мы были влюблены и, кроме покровительства акаций, другого не просили у страны…" (Ю. Ряшенцев). Но это было потом (гайки, стукачи и пр.), а пока жизнь била ключом (не пугайтесь: пока это – не гаечный ключ, а всего-навсего родник), сияла радужными красками и много чего сулила впереди.
Начнем с того, что в КАИ был уникальный Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), не уступавший профессиональным театрам ни одной позиции и превосходящий многие из них универсальностью и какой-то необычайной свежестью, злободневностью, остротой, юмором и задором. СТЭМ наш пользовался большой популярностью не только в Казани, но и гастролировал по городам и весям как внутри страны, так и за рубежом. Организатором и вдохновителем его был талантливый музыкант, композитор, поэт, дирижер и режиссер в одном лице Семен Каминский. Сердцевиной и жемчужиной СТЭМа был великолепный джазовый оркестр, в котором были все необходимые джазовые инструменты. Каминский дирижировал, играя при этом на рояле. Вот этим СТЭМом нас, первокурсников, и ошарашили на концерте, специально устроенном в честь посвящения в студенты. Ничего подобного лично я ни до, ни после не видел. Ликовал блистательный оркестр, звучали замечательные песни, в том числе глубокие, философские С. Каминского: про гнома, про злую осень, о вечном поиске смысла жизни (до сих пор их помню и пою). А уж всевозможным юмористическим миниатюрам о студенческой жизни, от которых мы надрывали животики, казалось, не было конца. И, конечно, ликовала и рвалась из грудной клетки душа.
Вторым чудом света была факультетская стенгазета "Самолет", которая не раз брала призовые места во всесоюзных конкурсах. Если не ошибаюсь, она выпускалась не реже одного раза в семестр, приурочивалась ко всем большим праздникам, измерялась десятками метров, занимала все стены коридоров на втором, кажется, этаже 3-го здания КАИ, где, начиная со второго курса, проходили занятия нашего 1-го факультета летательных аппаратов, и содержала столько разных разностей, а главное, бездну юмористических текстов и карикатур на злободневные темы, что на переменах стояла такая ржачка, что дрожали стены и дребезжали стекла.
Как-то постепенно мы притирались друг к другу в группе, в лекционном потоке. А ребята, жившие в общежитии, сплачивались еще теснее, особенно вокруг сковородки с жареной картошкой – тут смотри не зевай! Мы кое-что узнавали друг о друге, о наклонностях, кто чем занимается помимо учебы. Если говорить об общих для многих увлечениях, то это прежде всего занятия, так или иначе связанные с авиацией, и среди них в первую очередь авиамодельный спорт. Были начинающие парашютисты, а были ребята, которые о самолетах знали все, и не только отечественных.
В ту далекую эпоху имело место мощное движение – боевые комсомольские дружины, сокращенно БКД. В институте я членом БКД не был, но знаю, что эта служба была, как поется в песне, и опасна, и трудна. Дружина – боевая, но без боевого оружия. У ребят выучки никакой, опыта нет, сердца молодые, горячие, пропитанные чувством праведности дела, которому служат. А преступник вооружен, опытен, ему терять нечего (век свободы не видать), он пойдет на самые крайние меры. Так и случилось со студентом нашего первого курса Артемом Айдиновым. В критической ситуации он, безоружный, не задумываясь пошел на вооруженного бандита и погиб.
Не менее мощное студенческое движение – стройотряды. Но и его порыв и романтика прошли мимо меня, так как летнее время я отдавал авиационным видам спорта. А жаль: там могли пригодиться мои навыки в строительном деле, которые я перенял от отца: заливка фундамента, кирпичная кладка, плотницкое и столярное дело.
Перед моим мысленным взором выплывают, как из дымки, многие, дорогие мне лица ребят. Но как рассказать о них, как начертать их портреты, где найти правдивые, нефальшивые краски. Видно, мне, как и любому уважающему себя технарю, без инструкции не обойтись. Да где ж ее взять?! Придется написать самому.
Чтобы сразу, прямо и бесповоротно зарекомендовать себя хорошим и правдивым художником и тем самым усыпить бдительность изображаемого предмета и, главное, людей, хорошо его знающих, нужно начинать с таких характеристик, где меньше всего риска быть уличенным в фальсификации, а попросту говоря, во вранье. Прежде всего это геометрические и арифметические параметры, которые можно легко проверить.
1. Возьмите линейку, рулетку, портняжный метр, в конце концов, любую веревку.
2. Бесцеремонно, но со знанием дела подойдите к изображаемому объекту и измерьте: а) размеры его во всех координатных осях: рост, ширину, толщину; б) длину носа; в) расстояние промеж глаз; г) высоту лба… и прочая и прочая. Измеряйте все, что только можно измерить, лишним не будет.
3. Скрупулезно сосчитайте все родинки и бородавки (веснушки – по вдохновению) на лице объекта и укажите их точные координаты (на теле только в том случае, если изображаете обнаженную натуру). Это ваша фишка: при идентификации такие приметы действуют так же магически, как пароль. Сколько, казалось бы, безвозвратно утерянных в младенчестве невинных существ было обретено в преклонном возрасте благодаря именно этим приметам… и не только в Индии.
4. Укажите на первый взгляд незначительные, но при внимательном рассмотрении и, главное, при некотором осмыслении – характерные детали, которые человеку с развитым воображением могут сказать о многом: а) форму носа, а также наличие (отсутствие) оптических приборов на нем; б) цвет глаз и полную цветовую палитру щек и ушей и непременно в динамике, то есть в зависимости от эмоционального состояния, погодных условий, количества выпитого, политической обстановки в стране и за ее рубежами; в) состояние волосяного покрова (или его полное отсутствие); г) не помешает группа крови, а также ее цвет.
5. Напишите несколько математических формул и скажите, что они описывают: а) горбинку на носу; б) крутизну лба; в) в спираль закрученные усы; г) абрис живота и т. д. – проверять никто не будет, а действует убедительно.
6. Усадите объект на стул (поставьте у стены, положите на кровать), придайте ему наивыгоднейший (для себя, конечно) ракурс и заставьте застыть на 3 – 4 – 6… (сколько понадобится) часов.
7. Подойдите к мольберту (если вы пишете живописный портрет кистью) или сядьте за стол с лежащим на нем чистым листом бумаги (если вы пишете словесный портрет гусиным пером) и запечатлейте все собранные вами параметры на холсте (картоне, деревянной доске, бумажном или металлическом листе).
8. Не поскупитесь на радужные краски и украсьте портрет безобидными, но выигрышными мелочами: а) сделайте более значительными лицо и осанку; б) более умными и выразительными глаза; в) подрумяньте бледные щеки; г) уберите седые волосы из прически; д) сделайте более волевым (или просто волевым) подбородок; е) сбросьте годков эдак 5 – 7 – 10, но не переборщите: здесь важно знать меру. Небольшая доза лести никогда не противоречила изобразительным средствам, а, напротив, усиливала впечатление. Даже знаменитые художники не брезговали этими пикантными мелочами. Вспомните портрет А. С. Пушкина, мастерски исполненный О. Кипренским. И сам А. С. Пушкин рад был “обманываться”, – он так прямо об этом и сказал: “Но это зеркало мне льстит!” А кто не обрадуется, если его изобразят молодым и красивым? На то оно и изобразительное, и искусство! Кому нужен хваленый реализм, если он никому не приносит радость? Поэтому лично я, если уж и признаю реализм, то только социалистический… Однако давно пора приступить к начертанию незабвенных образов.
Саша Нечитайло – высокий симпатичный парень, всегда подтянутый, спокойный и позитивный, с открытой приветливой улыбкой на точеном, спартанского типа лице. Серьезно занимался легкой атлетикой.
Женя Вавилова, обладая теми же эмоциональными характеристиками, что и Саша (не случайно они очень скоро соединились в нерушимом союзе любви и посему в необременительных брачных узах), но, кроме того, заметными лидерскими задатками, стала центром притяжения в группе и помимо своей воли – комсоргом этого первичного административного подразделения.
Миша Левтеров – родом из Донецка, светловолосый молоденький мальчишка (как будто остальные были стариками) с чуть вздернутым носом и нежной, того самого цвета кожей, который принято называть "кровь с молоком", и поэтому покрывающейся – при малейших признаках волнения – размытыми бледно-розовыми пятнами. Тем не менее был ироничен, остроумен, доброжелателен, обладал хорошим чувством юмора и говорил на хорошем русском языке – его всегда приятно было слушать. Но главная его фишка: он был наблюдателен, имел хороший вкус и врожденное чувство прекрасного и поэтому был неплохим художником-любителем. Кстати, все эти качества вкупе замечательно проявились в факультетской газете "Самолет", а рисовать "Самолет" во все времена было высшим пилотажем. От себя добавлю: Миша был и остается настоящим другом, и я бы с ним пошел в разведку и на любое испытание, а это, согласитесь, кое-чего стоит.
Саша Гармаев из Улан-Уде. Достойный сын бурятских степей и гор. Крепкий, коренастый, с обветренным мужественным лицом, экономный в словах, но щедрый и отзывчивый в делах. Невзирая на юный возраст, чувствовалось, что он уже что-то испытал, что-то знает такое, за что на него можно положиться.
Мила Корепанова была действительно милой, симпатичной и настолько привлекательной девчонкой – и сама знала об этом, – что могла себе позволить легкий каприз, который удивительно шел к ее милому личику и был таким же естественным, как и она сама. Впрочем, это не мешало ей быть активной, с комсомольским задором девочкой и всегда – в центре внимания.
Гера Кочетков из Рузаевки Мордовской АССР. Небольшого роста, с правильными чертами подвижного лица, с умным цепким взглядом, который, в зависимости от ситуации, мог быть серьезным и сосредоточенным, а мог быть очень веселым и озорным. Гера обладал редкой способностью с архисерьезным видом говорить о смешных вещах. В нем самым невероятным образом сочетались лидерские качества, аналитический ум и природный юмор. Он был талантливым актером, настоящим лицедеем и мог сыграть любую роль, но особенно удавались ему комические, что он и демонстрировал с ошеломительным успехом в институтском СТЭМе и в КАИ-фильмах.
Его можно было бы сравнить с хорошо ограненным алмазом, одинаково ярко и щедро сверкающим всеми своими гранями, но, в отличие от алмаза, Геру никто не огранял, он от рождения был таким. Я никогда не видел, чтобы он занимался, пыхтел над учебниками (мы жили в соседних комнатах), но он всегда все знал, первым выполнял все задания и курсовые проекты, причем делал это легко и быстро, как бы невзначай. К нему можно было обратиться с любым вопросом, за любой помощью, и он никогда не отказывал, всегда помогал легко и просто. Ему не нужно было ничего изображать из себя, пыжиться, "обладать волевым подбородком" – он был силен, прост и естественен, как горный поток, как сама природа, и всем с первого взгляда было ясно: перед ними – настоящий лидер, вожак, и стая пойдет за ним хоть на край света. Он и был нашим вожаком, неизменным и незаменимым старостой группы во все время учебы. Мила, вышедшая за Геру замуж, была за ним, как за каменной стеной.
Люся Хазова – с каким волнением и с какой радостью я произношу это имя. Одна мысль о ней озаряет все вокруг и, главное, – все внутри тебя. И ты видишь не все то наносное и ненужное, что старательно копил всю жизнь и с чем не можешь и боишься расстаться, а ты вдруг обнаруживаешь, что и в тебе есть что-то хорошее, обнадеживающее, ради чего стоит и хочется жить. Откуда этот свет, какова его природа? Я никогда не задумывался об этом, как не задумываются о том, почему светит солнце, почему волнуется и рокочет море и почему так завораживает нас, почему так гипнотически действует на нас огонь, почему поют птицы. Светит – и светит, рокочет – и рокочет, горит – и горит, поют – и поют. Какое тебе дело?! Живи и радуйся! Невольно приходит на ум стихотворение Евгения Баратынского "Муза":
Не ослеплен я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной красотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.
Есть люди, в которых на первый взгляд вроде бы нет ничего особенного: они спокойны, уравновешенны, деликатны, доброжелательны, общительны. Но если вы попробуете взглянуть на них апофатически, то есть попытаетесь ответить на вопрос, чего у них нет и быть не может, то вы сделаете для себя неожиданное открытие, вы будете немало удивлены. Например, если вы захотите увидеть в них качества, которые есть практически у каждого нормального человека, такие как эгоизм, пусть даже и разумный, зависть, раздражительность, гнев, злопамятство, пустословие и пр., то вас ждет разочарование: как так, у всех есть, а у них – нет. За что же Бог обидел их, почему обделил? Ну что я вам могу сказать, если я и сам не знаю. Я могу только ответить на это словами моего дяди, который на вопрос "почему?" всегда давал исчерпывающий ответ: "Ну потому!"
Они не будут навязывать вам собственное мнение, бить себя в грудь и до хрипоты, с пеной у рта спорить, отстаивая свою собственную правоту, свою доморощенную точку зрения; не будут очно или заочно обсуждать кого-нибудь и тем более осуждать. Они не могут лгать, сплетничать, с умным видом изрекать банальные вещи, выдавая их за истину в последней инстанции и тем паче приписывая ее себе; не могут поддерживать пошлые и, Боже упаси, скабрёзные разговоры (это вы обнаружите по их вдруг покрасневшим щекам). Им не знаком язык упреков и тем более ультиматумов, от них не услышишь грубого слова. Им не нужно казаться лучше, чем они есть, стараться создать о себе выгодное мнение и благоприятное впечатление, потому что все лучшее они в избытке получили при рождении и даже задолго до появления на свет.
В них как бы сосредоточились вся мудрость веков, все то хорошее, что есть на земле, на небе, на море – вообще в природе, все те богатства, которые накопило человечество за многовековую историю. К ним не пристает никакая грязь, они как бы снабжены фильтрами и противоядиями. Это не значит, что они закрывают глаза на все негативное и зажимают нос, проходя мимо навозной кучи, пронося себя как драгоценный и хрупкий сосуд и боясь расплескать содержащийся в нем не менее драгоценный напиток. Просто они обладают способностью переплавлять негативную энергию в позитивную, не прилагая, вероятно, особых усилий. Этот органический процесс часто идет помимо их воли, благодаря тому свету, который поднимается из глубины их существ, как из глубины веков, как из глубины культурных исторических пластов, и неизбежно выходит на поверхность. И мы видим его в выражении их лиц, в мимике, в улыбке, в каждом движении. И он никуда не девается и никогда не кончается – даже когда человек уходит от нас, – как никогда не кончается солнечный свет, даже ночью, потому что мы знаем, что он есть, помним о нем и с нетерпением ждем рассвета. Не потому ли мы так радуемся восходу солнца?! Таким людям не нужно думать, как вести себя в той или иной ситуации, не нужно натужно улыбаться, сочинять выражение лица. Они всегда органичны и естественны, как сама природа. Не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, что они монументальны и статичны, как памятники, и безучастны ко всему, как роботы. Отнюдь. Они интересны, живы, отзывчивы, с ними комфортно, тепло и уютно.
Мне не раз приходилось встречать на своей жизненной дороге по-настоящему красивых людей и даже некоторое время идти вместе с ними рука об руку. И каждый раз я радовался и понимал, что пока есть такие люди, мир не безнадежен, что еще не все потеряно, что у нас еще есть шанс… К сожалению, чаще всего эти замечательные представители вида homo sapiens принадлежали не моему социальному слою (о пресловутых слоях говорю условно, чтобы выразить мысль). И я увидел, что красота этих избранных (кем?) людей и свет, от них исходящий, не зависят ни от социальных, ни от других каких бы то ни было слоев и наслоений, не зависят от национальной принадлежности и меньше всего – от интеллектуальной составляющей образования. Недаром прозорливые люди всегда говорили, что горе – от ума. Разумеется, здесь несколько смещен акцент: сказано это было с некоторой долей иронии и даже горечи. Всестороннее, многогранное, одухотворенное образование, направленное в правильное русло, никому не может принести вреда, тем более – горя.



