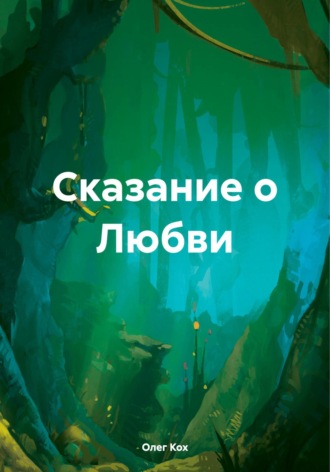
Полная версия
Сказание о Любви
Первую же пробную контрольную по математике мы написали на двойки. А ведь все были отличники и хорошисты. Началась кропотливая, но очень интересная работа. Математику вела Лазовская Нинель Григорьевна, и как вела! По институтской системе: сначала читала лекции, а потом проводила практические занятия. Дело, конечно же, не в форме. Она обрушила на нас такой сложности задачи, которые привычным методам не поддавались. Для них нужна была тончайшая вязь умозаключений, неумолимая логика математической архитектуры. И так же, как ажурный архитектурный рисунок шпилей и башенок Кельнского собора, красивы были доказательства математических теорем. Сначала мы недоумевали: что тут доказывать, и так все ясно. Но это обывательские рассуждения, а не математическое мышление. Здесь нужно было совсем другое сознание: философское, а не обыденное. Нинель Григорьевна выдавала нам не стандартные задания, а, как мы тогда говорили, задачи повышенной трудности, – она старалась оторвать нас от стереотипов. Эти задачи постоянно крутились в наших тугих головах, они не отпускали нас и преследовали всюду, где бы мы ни находились: дома, в школе, в кино, на прогулках, – преследовали как нечто материальное, как навязчивая идея. Помню, как перед кинотеатром в ожидании киносеанса мы писали на песке формулы, пытаясь найти решение.
Кроме занятий, предусмотренных учебным планом, были еще и внеклассные по математике, которые вела Нинель Григорьевна, и занятия в кружке юных физиков и математиков при пединституте. Вел кружок мой земляк из Волгодоновки, профессор, доктор физико-математических наук Кецле Гарри (отчество не помню) – высокий красивый молодой человек с неизгладимой печатью интеллекта на интеллигентном, украшенном очками лице. Я сразу узнал его и не поверил бы своим глазам, если бы сам он не подошел ко мне с расспросами. Потом меня просто распирало от гордости за земляка. Занятия в кружке захватили нас целиком и полностью, несмотря на то что задачи по механике сначала давались с большим трудом. Признаюсь, что по-настоящему, не формально, я понял механику, когда сам стал преподавать эту ньютоновскую науку в Чувашском госуниверситете много лет спустя. А пока мы радостно, но осторожно входили в неведомый, но упоительный мир математики и физики. И сознание потихоньку стало сдвигаться от обыденного к математическому.
Необычны были и уроки литературы, которую вела Андреева Адель Николаевна. Мы разбирали не только программные произведения, но и современные, недавно появившиеся в печати. В сочинениях, которые мы писали дома и в классе, ценился самостоятельный взгляд на ту или иную проблему, самостоятельная характеристика персонажей, необычная трактовка событий, поступков. Особое внимание уделялось стилю изложения. Так однажды, после проверки моего сочинения, Адель Николаевна поинтересовалась, на каком языке мы говорим в семье, и пояснила, что в моих предложениях порядок слов близок к принятому в немецком языке. Память не сохранила мне имен других учителей, но оставила впечатление доброты, интеллигентности и профессионализма. Низкий поклон им за это.
С большим волнением вспоминаю одноклассников. Кого ни возьми, у каждого что-то свое, индивидуальное, не сопряженное со стадным инстинктом. Не помню, чтобы кто-то стремился выделиться, самоутвердиться, завладеть лидерством. С Семеном Альтером мы жили в одном дворе, чуть дальше, в частном доме, – Толик Герасименко, еще дальше – Володя Плескачевский. Запросто ходили друг к другу, вместе готовили уроки. Утром Сенька Альтер заходил за мной, и мы вместе шли в школу пешком; если опаздывали – бежали. Идти было довольно далеко. Дорога шла сначала по благоустроенной части города, приблизительно квартал, затем выходила на пустырь в район новостроек, в ненастную погоду грязный, а зимой продуваемый всеми ветрами и буранами.
Однажды мы все-таки опоздали на занятия и ничего лучше не могли придумать, как пойти в кино. Но потом какие-то неугомонные червячки тронули какие-то чувствительные струнки, и мы пошли с повинной к нашим наставникам. Нина Михайловна отправила нас к директору. Не могу сказать, что этот визит улучшил настроение, и, чтобы утолить тоску, я доверился перу и бумаге и отразил наши похождения и мытарства в рифмованном тексте: "Встаю я утром, но не рано, когда негаданно, нежданно ко мне заходит мой дружок, и с ним бежим мы на урок. Но в школу мы не успеваем. Ну что же, если опоздаем, идем на детское кино – мой друг со мною заодно. С кино плетемся в школу мы. "Ребята, вы откель, с Луны?" – учитель спрашивает нас, когда мы в свой заходим класс. Что остается нам сказать, стоим, не в силах глаз поднять. "Придется мне на первый раз к директору отправить вас". По коридору под конвоем идем с дружком мы. Вслед гурьбою чувихи валят и, в укор, кричат нам вслед: "Какой позор!" – и т. д. в том же духе…
Володя Плескачевский – стройный, красивый юноша, чуть выше среднего роста, со слегка вьющимися русыми волосами. Всегда одетый с иголочки, по последней моде, будучи классным боксером, он никогда не задавался. Спокойный, выдержанный, надежный, доброжелательный, он в любой момент готов был прийти на выручку.
Каким-то образом образовался тесный круг: Валера Марушев, Саша Семавин, Юра Пламеневский, Наташа Стародубцева из девичьего 10-го класса и "скромный автор этих строк". Валера, как и я, занимался баяном, Юра играл на аккордеоне, Саша был самым начитанным из нас. Мы много времени проводили вместе, вместе ходили в драмкружок и в кружок бальных танцев. Танцы давались мне тяжело, зато я любил смотреть, как танцуют Юра и особенно Валера с Наташей. Это была очень красивая пара, смотреть на них было сплошным наслаждением – аж дух захватывало. Учитель танцев под Новый год изобразил их в вихре вальса на стене в актовом зале, где стояла елка. Случайно я узнал, что Наташа – парашютистка, и срочно побежал записываться в парашютную секцию.
Иногда мы собирались на квартире у Саши Семавина. Он жил у тети, которая часто бывала в геологических экспедициях, и квартира была в нашем распоряжении. Предметом зависти моей была богатая библиотека. Я никогда не видел столько книг, собранных в одном месте, и с интересом рассматривал незнакомых авторов. Изредка мы позволяли себе запретный плод – крепленое вино, но и без вина нам никогда не было скучно.
Совсем недавно в автомобильной катастрофе погибли Юра Пламеневский и его супруга. За несколько дней до происшествия я говорил с Юрой по телефону. Прошедшим летом собирался съездить к нему в Тюмень, но помешал коронавирус.
Юра Пламеневский, Георгий Пламеневский, Георгий Победоносец. Вот с этим святым, с этими именами: Георгий и Пламеневский у меня и ассоциируется образ Юры. Таким он и был на самом деле: человеком с горящим сердцем, защитником слабых. Красив, статен, подтянут, он и внутренне был собран, чист и красив. По натуре ярко выраженный лидер, он не терпел расхлябанности, не выносил пошлости, был строг и бескомпромиссен к себе и того же требовал от других. В классе он был нашим старостой, не формальным, а настоящим вожаком и далеко не всегда лицеприятным. Будучи неисправимым идеалистом и рафинированным эстетом, он хотел, чтобы всё вокруг было красиво и все были красивы. Гордый и независимый, он не заботился о своем имидже, не заморачивался, какое произведет впечатление. Человек крайне неравнодушный и непримиримый к негативным явлениям, Юра по собственной инициативе выпускал классную сатирическую газету, сам рисовал карикатуры, сам писал текст, часто в афористичной форме, и мог пропесочить в ней любого, невзирая на лица и обстоятельства. В кругу друзей был неизменно простым и естественным, милым и скромным, живым и интересным собеседником. С ним всегда было комфортно и надежно. Я часто бывал у него дома (он жил недалеко от меня), хорошо знал его маму-красавицу и младшую сестренку. Эх, Юра, Юра! Друг мой сердечный… Для меня ты всегда – Рыцарь без страха и упрека… Как д, Артаньян, как Дон Кихот.
Приходилось бывать мне и в семьях одноклассников Иосифа Брейдо и Юры Шапиро. Отцы у них, насколько я помню, были военными (у Юры, кажется, военврач). Запомнилась исключительно теплая, дружеская, интеллигентная и демократическая обстановка в их домах. Иосиф – умный, спокойный, немногословный, но всегда отзывчивый юноша; школу окончил с золотой медалью. Юра – веселый, где-то даже бесшабашный и, может быть, поэтому обладающий сильным магнетическим полем, куда неизбежно попадали и пропадали все, кто встречался взглядом с его улыбающимися, обаятельными глазами. Несмотря на то, что отмеченные качества, казалось, не слишком располагали к прилежанию и к успешной учебе, Юра был удостоен серебряной награды.
Два предмета: история и обществоведение представляли для меня специфическую трудность. Их успешное освоение требовало титанической работы с первоисточниками (труды Ленина, Маркса) и регулярного штудирования передовиц центральных газет. Конспектирование первоисточников давалось мне с большим трудом, а чтение газет было просто пыткой. Эти шедевры политической литературы, эти светочи передовой мысли действовали на меня гипнотически в буквальном смысле: я ментально, моментально и монументально погружался в летаргический сон, и возвращал меня к жизни только звучный гонг о закрытии библиотеки. В этой связи вспоминается "Отчаянная песенка преподавателя обществоведения" Юлия Кима: "Люди все, как следует, спят и обедают, чередуют труд и покой. Только я все общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной… – и в конце: – Выберу я ночку глухую, осеннюю, я уж все давно рассчитал, лягу я под шкаф, чтоб при легком движении на меня упал "Капитал".
Не помню, чтобы папа с мамой когда-нибудь читали газеты, но я знал, что все нормальные люди должны уметь читать эту передовую литературу. Я пробовал научиться этому нелегкому делу самостоятельно, но у меня ничего не получалось: мой тщедушный организм не в состоянии был воспринимать этот высокий штиль и понимать эту высокоорганизованную материю, мой хилый желудок отказывался переваривать эту пищу богов. Я страшно переживал по этому поводу: как так, все могут читать газеты, а я не могу. И как, скажите на милость, было мне существовать в то замечательное время тотальных политзанятий и еще более тотальных политинформаций? У меня даже развился комплекс на этой почве и преследовал меня вплоть до повсеместной отмены пресловутых политзанятий и политинформаций. Но я все-таки нашел способ существовать, даже будучи таким патологическим неучем, вернее, меня каждый раз выручали друзья и коллеги на каком бы участке фронта я ни находился: они проводили политинформации вместо меня.
В мае 1964 года я совершил свой первый прыжок с парашютом. Это было ни с чем не сравнимое, дотоле неизведанное ощущение и состояние. Когда я вывалился из самолета, все внутренности устремились к горлу и готовы были выскочить из хаотично кувыркающегося и обезумевшего организма. Но стоило раскрыться парашюту, сознание не просто вернулось в утробу, но наполнило её каким-то диким восторгом: душа ликовала, сердце птицей билось в груди. Мы были совершенно невменяемы и что-то дико орали друг другу. Под нами раскинулась какая-то неправдоподобная, схематичная, как на карте или плане, земля, с небольшими прямоугольниками полей, с миниатюрными коробочками домов, с крошечными кудряшками деревьев. Мы увидели крест, куда должны были приземлиться, и перемещающиеся точки людишек на старте. Все было крошечным, миниатюрным, лилипутским и очень смешным, а мы были огромны и как бы попирали страну Лилипутию болтающимися ногами.
Лето после 10-го класса было довольно-таки содержательным и насыщенным. Во-первых, мы с двоюродным братом Яшей и бабушкой Кохшей съездили в г. Джамбул к дяде Роману и весьма неплохо провели там время. Нескончаемые сады, изобилие фруктов, дынь, арбузов, благовонные восточные рынки, купание в арыках, жгучая вязкая жара при абсолютно неподвижном воздухе – всё это неотъемлемые приметы южных районов Казахстана.
Может быть, заслуживает внимания следующий эпизод. Под карнизом чердака, на самом верху, я увидел несколько больших осиных гнезд, возле которых флегматично летало несколько ос, и решил пощекотать им нервы. Приставил к фронтону длинную лестницу, взял толстую палку и на глазах у брата Яши отважно полез вверх. Добравшись до ближайшего гнезда, я сшиб его палкой, и тут же огненными стрелами в меня вонзились тысячи жал. Сраженный наповал, я полетел вниз с огромной высоты. На удивление, я ничего у себя не повредил. А вот образ свой я поменял на более обычный и привычный для этих мест. До конца дня я отлеживался в арыке, зарывшись в ил. Получилось, что не я им, а они мне изрядно пощекотали нервные окончания.
Вторую часть лета провел я в родном селе. Я был застигнут врасплох: на меня обрушилась любовь в образе Прекрасной Дамы, даже двух. Одна из них Валя, другая – Света. Обе они были из бригады маляров-штукатуров, которая прибыла из Целиноградского ПТУ, кажется, на практику. Жили девчата в общежитии, и, когда я приехал из Джамбула, мой двоюродный младший брат Володя успел развить в этом "осином гнезде" бурную деятельность. Разумеется, и меня затянуло в эту воронку. Вечера и выходные дни мы проводили очень весело. Ходили в кино, на танцы; я играл на баяне, а девчата танцевали. Потом до рассвета ходили по селу и горланили песни под баян. И всё это на трезвую голову.
Однажды залезли на ветряную мельницу, высотой никак не меньше пятиэтажного дома. На излете наших похождений заваливались в общагу и вели любовные разговоры. Валя, например, спрашивала: "Ты кого больше любишь, меня или Свету?" Я отвечал честно, без тени сомнения: "Конечно, тебя!" Когда такой вопрос задавала Светлана, я говорил то же самое без зазрения совести. Я преподал Вале несколько уроков езды на мотоцикле, и она носилась по селу, как заядлый наездник. Признаюсь, очень переживал за нее. Классные были девчонки, вспоминаю их со светлой грустью.
Еще одно знакомство подстерегало меня этим летом – знакомство, оказавшееся, как говорят, судьбоносным. К нам приехали с концертом из какого-то села нашего района студенты Московского авиационного института, что-то они там строили. Все в стройотрядовской униформе, красивые, легкие, веселые, они вдохнули в нашу устоявшуюся сельскую жизнь какой-то свежий, легкокрылый ветер, какой-то неповторимый, непривычный для наших ноздрей аромат. А песни какие они пели! Мы таких и не слыхивали: "Качает, качает, качает задира-ветер фонари над головой. Шагает, шагает, шагает веселый парень по весенней мостовой…" – просто подхватывает и уносит в неведомую страну, в неведомые дали. После концерта я пригласил ребят к себе домой, и мы до утра без умолку о чем-то говорили. В частности, они поведали мне о том, что у них при институте есть авиаспортклуб, где можно заняться любым из авиационных видов спорта: парашютом, планером, самолетом. Вот в этот момент и заронили они в мой "ослабленный нарзаном организм" запретное зерно. Но сказали, что лучше поступать в Казанский авиационный, что он сильнее Московского.
Хочется рассказать о моем двоюродном брате Володе Кохе. В первой главе я писал, что родился он в 50 году в первой семье моего дяди Отто, который вскоре завел другую семью. А тетя Катя, мать Володи, вышла замуж и сына забрала с собой. Отчим дядя Костя был славный человек и к Володе относился как к родному сыну. Он не то что не наказывал его физически, слова грубого Володя от него никогда не слышал. Володя любил бывать в нашей семье, так что я воспринимал его как родного брата. Рос он свободным и смышленым и, я бы сказал, несколько разбитным. Мать хоть и старалась держать сына в строгости, но у неё это не очень получалось.
Володя был независимым, веселым, озорным и совершенно неприхотливым. Мы с ним иногда уезжали на мотоцикле на рыбалку с ночевой на дальнюю старицу. В скалах, обрывающихся в воду, разводили костер, а под утро засыпали прямо на камнях. А на самой зорьке выплывали на лодке, сделанной из колесной камеры трактора "Беларусь", в клочья молочного пара, клубящегося над зеркальной гладью воды.
Володя рано научился играть на гитаре, где-то разучил блатные песенки (в конце 50 – начале 60-х съезжалось много молодежи на освоение целины) и с удовольствием распевал их приезжим девчатам.
Однажды у него случился роман с одной целиноградской девчонкой, приехавшей на лето в Волгодоновку к родичам. Но молодая особа, вернувшись к себе в Целиноград, мало того, что забыла свою деревенскую любовь, но еще и написала моему брату уничижительное письмо. Я принял оскорбление на свой счет и написал этой особе от имени брата дерзкое письмо в стихотворной форме (я тогда как раз баловался ритмом и рифмой). И что вы думаете: любовь вернулась к деве, как миленькая. Вот уж поистине, – магическая сила рифмованного слога. Зато сие эфемерное чувство навсегда покинуло сердце моего отмщенного брата, и к увещеваниям целиноградской дивы он остался черств и равнодушен.
После школы Володя поступил в Целиноградский медицинский институт. Будучи художественно одаренным и имея счастливый характер и хорошее чувство юмора, он активно участвовал в художественной самодеятельности института – словом, был на виду и на высоте.
И вот когда мой брат был в успехах, как в шелках, и ничего особенного не ожидал, в Целиноград осенью нагрянула та самая комиссия, которая двумя годами раньше перекрыла мне дорогу в летчики. Володя ради интереса попробовал и прошел все три комиссии: медицинскую, аттестационную и мандатную. Это и решило его судьбу. Он уехал в Ставрополь, окончил летное училище и стал летчиком-истребителем. В училище он так же, как и в мединституте, участвовал в художественной самодеятельности, был бессменным конферансье. По окончании училища брат мой женился и уехал служить сначала в Хабаровск, потом на Сахалин.
Мы встретились с ним в 77 году, когда он приезжал на побывку в Волгодоновку один, без семьи. Он, тогда еще совсем молодой человек, был в звании подполковника и занимал должность замкомполка по политической части. Это был совсем другой человек, нежели тот, которого я знал когда-то. Он ни на что не жаловался, но я почувствовал, что его будто что-то придавило, приземлило, во всяком случае, выглядел он старше своих лет. Он сказал мне, что уже два года собирается поступать в академию, но всё почему-то откладывает. Намерению этому, однако, не суждено было свершиться, так как вскоре брат мой погиб при загадочных обстоятельствах. Со слов тети Кати, приехавшие к ней с соболезнованиями сослуживцы сказали, что Володя пошел на перехват нарушителя границы, таранил его и упал в океан; туда и сбросили венки. У него остался сын Володя, который даже связывался со мной и с моими сестрами в 90-х на предмет переселения в Германию.
Наконец я достиг возраста, когда можно было учиться на летчика. Из нашего класса еще три человека решили связать свою судьбу с этой романтической профессией. После того, как мы прошли врачебно-летную комиссию (ВЛК), начались занятия в аэроклубе. Если мне не изменяет память, мы изучали тринадцать авиационных дисциплин (больше, чем в школе): аэродинамику, конструкцию самолета ЯК-18У, двигатель, самолетовождение, аэронавигацию, радио- и электрооборудование самолета, приборное оборудование, гидравлическое оборудование, основы радиообмена, метеорологию, спасательные средства, аэродромное оборудование. По шести дисциплинам были предусмотрены экзамены, по остальным – зачеты. После сдачи экзаменов и зачетов – наземная подготовка на аэродроме: запуск двигателя, руление, радиообмен, имитация взлета, полета по кругу, посадки, фигур высшего пилотажа.
И – в небо. Мы должны были налетать 42 часа по программе летной подготовки, чтобы потом продолжить обучение в Ставропольском высшем военном авиационном училище летчиков-истребителей.
Но еще задолго до наземной подготовки мы отрабатывали до автоматизма согласованные движения рук и ног для выполнения той или иной фигуры высшего пилотажа: в классе на тренажере, а дома, сидя на табуретке и держа в правой руке палку (воображаемую ручку в кабине самолета), а ногами упираясь во что-то твердое, как в педали. Программа была чрезвычайно насыщенная и трудная. Но нам все было нипочем. Главное, что мы были пилотами-курсантами, будущими летчиками-истребителями, и у нас уже начали отрастать крылья.
Занимались с невиданным энтузиазмом. Занятия проходили вечером, четыре раза в неделю по четыре урока, под руководством опытных преподавателей. Каждую дисциплину изучали в хорошо оснащенных спецклассах: двигатель на стенде, приборы, агрегаты, узлы, шасси и пр. – все в натуральном виде. Кроме того, все дублировалось красочными плакатами. Обучение этому непростому делу было поставлено на серьезную, твердую ногу. В начале каждого урока обязательный обстоятельный опрос; и охват курсантов был довольно широкий, во всяком случае, участвовали все. А ведь был еще одиннадцатый выпускной класс, и там тоже надо было работать, не щадя живота и других, не менее важных органов.
Май месяц. Сданы экзамены и зачеты. В ожидании медицинской, аттестационной и мандатной комиссии из Ставрополя мы начали выезжать на аэродром для прохождения наземной подготовки. Прибыла комиссия и зарубила меня по состоянию здоровья. Диагноз: конъюнктивит глаз. Вот тебе раз, что еще за конъюнктивит? Слова-то такого не слыхал. Запомнил злополучное слово и побежал в поликлинику. Посмеялись, успокоили: "Ну какой это конъюнктивит! Легкое покраснение глаз от недосыпания. Спите нормально, и через неделю все пройдет". Я, в крайней степени отчаяния: "Но через неделю от комиссии не останется и следа, умотает в свой Ставрополь!" – "Объясните, убедите", – последовало напутствие.
Помчался объяснять и убеждать председателя всех трех комиссий. Сей высокий чин не стал возражать против диагноза "легкое временное покраснение глаз", но сказал приблизительно следующее: "Летчик должен быть абсолютно здоров, здесь и сейчас”. И добавил успокаивающе: “Что вы переживаете? Отлетаете программу в родном аэроклубе этим летом, потом столько же – следующим и с восьмьюдесятью четырьмя часами – милости просим к нам в Ставрополь. Вам даже легче будет учиться". Ну что мне оставалось после такого оптимистического напутствия? Благоприятный для меня вариант был загублен решительно и бесповоротно, и я вынужден был играть свой водевиль по навязанному мне сценарию. Летом отлетаю программу, осенне-зимнюю навигацию отработаю либо трактористом в родном селе, либо электромонтажником на заводе, где, согласно школьной программе, получил специальность и проходил практику, следующее лето снова отлетаю, потом, как сказал Владимир Семенович, уложу чемодан и – в Ставрополь, и – в Ставрополь.
Однако радужным планам этим не суждено было сбыться. Немного поостыв от переживаний и вспомнив мою встречу со студентами Московского авиационного, я оказался, как витязь на распутье, на перекрестке трех дорог: 1) летать в аэроклубе два лета и потом, если повезет, – в Ставрополь; 2) поступать в Казанский авиационный институт и там летать в авиаспортклубе; 3) поступать на второй курс Карагандинского музыкального училища, по классу баяна, – зря что ли занимался по три-четыре часа в день с преподавателем названного учебного заведения. И хотя учителя склоняли меня ко второму варианту, родители предоставили мне право выбора. Чашу весов неожиданно качнул в сторону второго варианта мой друг и одноклассник в одном лице, Валера Марушев. Оказывается, он давно намылился на радиотехнический факультет Казанского авиационного института. Вот те раз! Так бы сразу и сказал.
Мы сели на Ил-18 (первый раз летел на таком шикарном самолете) и взяли курс на Казанский авиационный институт, полетели сдавать экзамены, тем более что нам, как гражданам, имеющим правительственные награды (а у нас с Валерой по золотой медали), разрешается сдавать только один предмет: математику письменно и устно.
Важно украшен мой школьный альбом –
молотом тяжким и острым серпом.
Спрячь его, друг, не показывай мне,
снова я вижу, как будто во сне:
восьмидесятый, весь в лозунгах, год
с грозным лицом олимпийца встает.
Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу вот-вот упаду, но иду.
Мрачно идет вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
Песня лихая звучит надо мной.
Начался, граждане, день трудовой.
Все, что я знаю, я понял тогда –
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
"…личико, личико, личико, ли…
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру…
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма… –
в ватный рукав выдыхает зима:
Аленький галстук на тоненькой ше…
греет ли, мальчик, тепло ли душе?"
Всё, что я понял, я понял тогда –
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в чёрных прожилках звезда.
И – никого. Ничего. Никогда.



