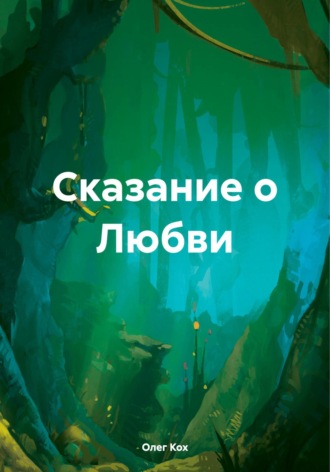
Полная версия
Сказание о Любви
Однако мы немного отвлеклись от дяди Семена и его неизбывной любви к азбуке Морзе. Так вот, постепенно опорожняя в течение вечера содержимое находящегося около сердца и греющего душу сосуда, а можно смело предположить, что и не одного, дядя Сеня, не переставая сообщать нам не раз рассказанную историю, медленно, но неуклонно переходил от возбужденного и взволнованного состояния в состояние задумчивости и озабоченности и, все больше удаляясь от нас, достигал в конце концов состояния вполне сомнамбулического, которое стирало все географические и временные рамки и позволяло ему перенестись в другое время и другое место. Он был уже где-то на боевом корабле в военной обстановке и, неся службу у аппарата Морзе в качестве радиста, непрерывно и монотонно бубнил, уронив голову на стол: "О – три тире, о – три тире, о – три тире (буква "о" воспроизводится на аппарате Морзе тремя длинными сигналами, а записывается – тремя тире)…" И так до тех пор, пока не засыпал. В следующий вечер повторялось то же самое с некоторыми вариациями. Вот такой был наш дядя Сеня: сколько лет прошло, а он все служит, война давно кончилась, а он все воюет. Романтик и патриот, патриот и романтик. Подводя итог моего рассказа о нем, я бы несколькими мазками охарактеризовал его так: небольшой, подвижный, уютный, добрый балагур, бесконечно преданный господину Морзе и его магической азбуке.
Обучение профессии "Механизатор широкого профиля" велось параллельно с изучением основных предметов и было поставлено на крепкую ногу. Этой профессии обучались только парни. В 8 классе мы досконально изучали сельхозтехнику: сеялки, плуги, бороны, сенокосилки, грабли, сдавали зачеты по теории и в одном из близлежащих совхозов проходили практику: сеяли пшеницу в мае месяце.
В бункер широкой пятиметровой сеялки, буксируемой трактором, загружалось зерно. Как только сеялка выходила на край поля, мы открывали клапаны дозаторов, установленных по всей ширине бункера с промежутками, соответствующими расстоянию между рядами, и зерно равномерно сыпалось через открывшиеся отверстия по желобам, погруженным в землю на определенную глубину. Сеялка перемещалась по вспаханному и пробороненному полю, влекомая неумолимой силой, в облаке пыли, а мы тем временем ходили по подвесной деревянной скамейке вдоль бункера и следили, чтобы зерно расходовалось равномерно, и при необходимости устраняли неполадки. На каждую сеялку полагался один оператор. Пыль набивалась в глаза, уши, нос, въедалась в кожу лица так, что, когда мы снимали специальные защитные очки, напротив, оказывались в очках. Излишне говорить, что смыть этот присвоенный нами слой пыли в конце смены не было никакой возможности. Нас это не особенно смущало, мы были молоды и беспечны. Жили в общежитии, в одной большой комнате всем классом. Времени на кино и танцы не оставалось, но вполне хватало, чтобы подурачиться.
В 9 классе изучали тракторы, два типа: гусеничный ДТ-54 и колесный "Беларусь". Практику на этих типах тракторов я проходил в родном совхозе на сенокосе, причем и параллельно, и последовательно с основной работой. То есть днем я косил сено на сенокосилках в том же экипаже С-вых (см. предыдущую главу), а ночью должен был пахать землю под озимые на гусеничном тракторе Т-75, который таскал наши косилки. А после того, как сено будет скошено, я на тракторе "Беларусь" должен был возить его в село к скирдам, сделать несколько рейсов.
Такова была договоренность с руководством совхоза и с трактористом Виктором Г. Но сей почтенный муж (всего-то на два года старше меня и проработал не больше года) стал отговаривать меня: мол, на полях опасные солончаки, в которые можно ухнуть вместе с трактором, как в болото, – я тебе и так напишу, что полагается. Но я, как говорится, уперся рогом и даже стал шантажировать его, что пожалуюсь начальству.
И вот в одну прекрасную ночь, после первой сенокосной смены, Виктор помог мне навесить плуг и вместе с ребятами пошел спать. В этот раз мы ночевали на полевом стане. А я в состоянии крайнего нетерпения и необычайного волнения порулил пахать поле, на котором меня поджидали коварные солончаки. Виктор рассказал, как солончаки выглядят ночью (днем я их видел не раз), дабы я их вовремя обнаружил и благополучно объехал. Я вырулил на поле (а поля в наших краях длинные, по несколько километров) и сделал первый, очень ответственный круг, потому что, если проложишь первую борозду криво, остальные, как проведенные по лекалу, будут такими же. Трактор, как норовистый конь, все время пытался уйти с борозды влево, и его постоянно приходилось урезонивать правым рычагом. Поэтому спать сначала не хотелось. А потом, ближе к утру, молодой организм стал настойчиво предъявлять свое законное право на сон. Вот тут-то меня и настигло чудовище, о котором я, честно говоря, запамятовал. Оно схватило мою левую гусеницу и потащило вниз. Трактор сильно накренился влево и стал пробуксовывать, все больше уходя в солончак левой гусеницей. Еще немного, и мой стальной конь завалился бы набок. Но, к счастью, у меня хватило ума оставить попытки выбраться из цепких лап чудища и заглушить мотор.
В крайне разбитом и подавленном состоянии, как будто это меня, а не моего коня терзал зверь, я приплелся на стан и тихонечко, чтобы не дай бог никого не разбудить, лег с краю на полу. Но разве мог я уснуть в таком состоянии… Утром Виктор проснулся и, увидев меня, сразу понял, в чем дело. И вместо того, чтобы обложить матом, расхохотался и успокоил: не ты первый и не ты последний. После чего сел на чужой трактор, поехал и вытащил моего коня на буксир. А меня вроде даже как бы похвалил: хорошо, что вовремя заглушил мотор и не завалился набок. Тогда пришлось бы повозиться.
Конечно, этими словами Виктор меня не успокоил. Ну, думаю, когда буду возить сено на "Беларусе", всем покажу, какой я классный тракторист. И с нетерпением стал ждать, когда мы кончим косить. Этот день в конце концов настал. Я пришел к начальству требовать обещанный трактор. Вопреки ожиданиям, мне его предоставили тут же, без всяких препирательств. Правда, сказали, что за ним надо сгонять во вторую бригаду на полевой стан, который находится в 10 километрах, за ж/д станцией. Кажется, я полетел за трактором на собственных крыльях. И за каким трактором! Который, как и автомобиль, ездит на четырех колесах, причем задние – ну просто огромные! Это вам не гусеничный, который ползет, как черепаха. Невозможно передать в словах то состояние, которое я испытал, когда завел стартером это высокое, как жираф, механическое существо, и оно понесло меня с большой скоростью. Таких слов просто не существует. Поэтому я ехал и пел, и душа пела, и сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки, – ему там было тесно, ему тоже хотелось лететь. Как я жалел, что никто не видит, как я классно управляюсь с этим гигантом.
В родном селе я прицепил огромную тележку и поехал за собственным сеном на собственном тракторе далеко за речку. Это было упоительное путешествие для души, находящейся в плену у тщеславия. Я гордо плыл от копны к копне, и рабочие совхоза, мои односельчане, грузили сено на плоскую платформу тележки. А я не грузил, мне не положено: я – водитель! Откуда же я мог знать, что впереди меня поджидает несчастье? Да разве могла прийти мне в голову такая бредовая мысль?! Я уже почти подъезжал к селу, осталось только форсировать вброд речку. Но перебраться на другую сторону реки мне было не суждено. На самом спуске к воде я вдруг почувствовал, что трактор почему-то перешел на черепаший ход. Оглянувшись назад, я увидел – о-о! лучше б глаза мои не видели этой ужасной картины, – что тележка с сеном лежит на боку. Мне осталось только спеть: "Кони не идут, слишком берег крут". Вместо того чтобы триумфально въехать в село, я с позором потащился просить о помощи. Конечно, из любой ситуации можно найти выход. С огромного стога сена, пришпиленного к тележке, сняли веревки, тележку из-под стога вытащили, сено загрузили обратно и спокойно довезли до положенного места. Но все это уже без меня.
Не могу не сказать о визите Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева в наши края. Его поезд следовал из Целинограда в Караганду и должен был ненадолго остановиться на станции Вишневка. Освоение целины вообще детище Никиты Сергеевича. Это он затеял эту сомнительную эпопею. И Акмолинск в Целиноград он переименовал. К этому времени уже была провозглашена программа, согласно которой коммунизм должен быть построен к 1980 году. У всех в ушах навяз лозунг: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Может быть, Н. С. Хрущев, как и я, прочитал в детстве "Город Солнца" Кампанеллы и проникся его идеалами? Что касается меня, то программа эта легла на подготовленную, зараженную идеями Кампанеллы почву, и я принял ее безоговорочно, безусловно и безупречно и готов был глотку перегрызть тому, кто посмел бы усомниться в реальности этой благой цели. А если говорить серьезно, я и сейчас считаю, что коммунистические принципы жизни единственно достойны человека и пока не осуществимы из-за нашего несовершенства, из-за наших непомерных претензий, из-за дефицита любви.
Конечно же, был митинг на станции Вишневка, конечно же, все близлежащее пространство было запружено любопытным и, возможно, сомневающимся народом. От нашей школы, кажется, был снаряжен автобус, но я не поехал: любопытством я не страдал (во всяком случае, не в такой степени, чтобы участвовать в унижающей человеческое достоинство процедуре), а убеждать меня было не нужно, я и сам мог убедить кого угодно. Н. С. Хрущева уважал и считал своим единомышленником.
Не помню, как Эрвин А. ездил в свою Вячеславку по выходным, но мы с Гришей С. каждую субботу, за редким исключением, отправлялись в родное село на поезде. И гораздо реже – с оказией на попутной Волгодоновской машине, которые приезжали в райцентр по каким-либо нуждам. В субботу после уроков мы сразу шли на станцию, которая находилась в двух километрах от Вишневки и, не заходя в помещение станции, ждали поезда где-нибудь поодаль, ближе к хвосту. Когда поезд останавливался, мы, как люди совершенно незаинтересованные, непринужденно прогуливались вдоль поезда на противоположной от станции стороне. На самом деле напряженно искали вагон, на торце которого были бы ручки. Ручки нужны нам были для того, чтобы, стоя на буфере между вагонами, держаться за них. Однако вагонов с ручками было гораздо меньше, чем без них, к тому же нам нужно было два таких вагона. И если вагон с ручками не попадался, а поезд вот-вот тронется, мы забирались на буфер, вдавливали свое тело в торцовую стену вагона и отдавали себя во власть зеленого змея и во власть страхам. Положение усугублялось тем, что хвост змея ведет себя обычно очень беспокойно, чувствуя на себе инородное тело и справедливо пытаясь от него избавиться, – на то он и хвост. Слава Богу, что всегда побеждали мы. Зато как весело шагали мы со станции домой, чрезвычайно гордые и довольные собой, что выстояли (в буквальном смысле) в неравном противостоянии. С ручками было гораздо веселей и практически безопасно, и, надо признаться, путешествий с ручками было больше. Конечно, родители не знали и даже не догадывались… И хорошо, что не знали. Представить невозможно, чтобы мой сын мог позволить себе такое! Правда, у него и у его поколения были свои экстримы, и неизвестно, кому было страшней.
Потом этот способ путешествовать на поездах я использовал, когда летом, после 10-го класса, мы с моим двоюродным братом Яшей и с бабушкой Кохшей ездили в г. Джамбул в гости к дяде Роману. Но тогда никакой нужды в этом не было, так как у нас у всех были билеты. Я на ходу открывал входную дверь в тамбуре, перебирался на буфер и по ручкам-ступеням поднимался на крышу вагона навстречу вольному ветру. Какое это было упоительное состояние, какое опьяняющее чувство! Впрочем, пусть за меня скажет обожаемый мною свердловский поэт Борис Рыжий:
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал своих друзей –
Водяного с Черепахой, – щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети – грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром что ли – желторотый дуралей –
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей?
И на каждом на вагоне, вольной волею пьяна,
"Приму" ехала курила вся свердловская шпана.
Разумеется, я был не один такой храбрец. Тогда многие путешествовали таким образом, чтобы сэкономить деньги или – когда они отсутствовали. Были и несчастные случаи, когда ребятам сносило черепа о мосты и путепроводы. Но когда в такой черепной коробке не оказывалось мозгов, то очевидцам становилось все предельно ясно, и они только разводили руками. Понятно, что мною наряду с кайфом двигал чистейшей воды авантюризм и желание выпендриться перед младшим братом. А еще более авантюрно было то, что я и его уговаривал совершить это восхождение и даже пускался на шантаж. А он, вместо того чтобы хлебнуть свежего ветра (в вагоне была сумасшедшая жара) и вкусить радость свободы, наябедничал на меня бабушке. Достать они меня там не могли, но и я не хотел оставаться долго без еды. К тому же я не знал, что Яша меня выдал, и когда спустился с покоренных вершин как победитель, то был схвачен родной бабушкой и, вместо фанфар, посажен под унизительный арест. И это на виду у всего вагона! Позже, став студентом, я не раз пользовался этим дешевым способом перемещения в пространстве. А перемещаться приходилось много.
Надеюсь, я уже приучил читателя к частым и не всегда оправданным отступлениям. В родном селе мы появлялись как посланцы другого мира, более культурного и цивилизованного, ощущали себя носителями этой самой культуры и цивилизации и, хоть нос старались не задирать, чувствовали свое превосходство над односельчанами, особенно над младшими школьными товарищами. Нас теперь не привлекали вечерние киносеансы, мы даже к бильярду охладели. А привлекали нас всецело танцы, нам не терпелось показать отставшим от жизни односельчанам модные, динамичные твист и чарльстон.
Надо ли рассказывать вам о том, как невыносимо сладко очутиться в родном доме среди родных и бесконечно близких тебе людей, хотя бы и всего только на полтора выходных дня, – очутиться у родного очага, где весело горит огонь, да не горит, а пляшет от избытка счастья. О том, как ты садишься за накрытый только в честь тебя стол в предвкушении не то чтобы чего-то вкусненького, это уж как водится, а в предвкушении чего-то несравненно большего, чего и выразить нельзя, чтобы не соврать, но что надолго, если не навсегда, останется внутри тебя. Все это, как серьезно и справедливо сказал Э. Хемингуэй, – праздник, который всегда с тобой.
Вот, одинокий оборванец,
я приглашаю Вас на танец,
и это танго Вы танцуете со мной –
в старинном парке – вечером – весной.
Вот, я веду Вас неумело,
Рука от страха онемела,
Ужасно близко Ваше тело,
У Вас в глазах – таинственная даль.
Скрипит дощатая веранда,
Под тополями курит банда,
Мне не уйти. Но мне себя не жаль.
Танго и в окнах развалин золотое сиянье заката.
Усмехается Сталин с плаката,
И сирень расцвела на валу.
Сзади свист, и все ближе расплата.
Светит месяц в разбитом окне,
тянет гарью из мертвого танка…
По глухим пустырям, как во сне,
я домой Вас веду после танго.
(И. Шкляревский)
Глава 5. Караганда
"Кара…" – и мне не до шуток.
Было здесь всё в первый раз:
дружба, прыжок с парашютом,
наш удивительный класс!
Почему Караганда, а не Целиноград? Караганда расположена в трехстах километрах от Волгодоновки, а Целиноград в сорока. Из Целинограда можно и поездом, и автобусом, который ходит каждый день, а из Караганды только поездом, который прибывает на станцию ночью, а дальше, до родного дома, семь километров пешком. В Целинограде есть речка, а в Караганде нет. И аэроклуб, возможно, в Целинограде не хуже. Так почему же все-таки Караганда – черный город? Город отважных шахтеров, омертвелых терриконов и черных снегов? Да потому что в этом городе жила двоюродная сестра моего отца тетя Лида Приль с мужем дядей Васей и двумя детьми: четырехлетним Витей и двухлетней Ирочкой. Вот в этой замечательной семье мне и предстояло прожить два года. Сразу хочу категорически заявить, что эта семья стала для меня родной: тетя Лида и дядя Вася – за мать и отца, а Витя с Ирой – младшими Geschwisterами. Дядя Вася работал на шахте проходчиком, то есть добывал уголь глубоко под землей. А тетя Лида работала в ателье по пошиву модной одежды. Жили они в центре города на улице Ленина, в двухэтажном доме № 48 (сейчас бы сказали: элитном), в двухкомнатной квартире. Комнаты большие, изолированные, с высокими потолками. Профессия шахтера считалась привилегированной со всеми вытекающими последствиями. Дядя Вася раз и навсегда присвоил себе право ходить на мои родительские собрания и использовал это право неукоснительно и непоколебимо, а возвращался с мероприятия в прекрасном расположении духа и широко улыбался.
Мои новые родители являли собой весьма необычный вариант семейного союза и как никогда лучше демонстрировали один из дуалистических философских законов: "Единство и борьба противоположностей" или пушкинское: "волна и камень, стихи и проза, лед и пламень". Оба красивые, яркие, романтичные, независимые, но он – мечтательный и неторопливый, она – деятельная и стремительная, он – мягкий и рефлексирующий, она – сильная духом и решительная, он – спокойный и лиричный, она – веселая и заводная, он – человек сугубо семейный и замкнутый, она – сверх меры общественная и общительная, наконец, он – интро-, а она – экстраверт. Они не уступали друг другу даже в мелочах: он – из-за мужского самолюбия, она – в силу боевого, задорного характера. Их противостояние было как спектакль, как спортивное состязание, как дуэль, и доходило порой до весьма драматических сцен.
Тетя Лида не хотела уступать дяде Васе ну ни на йоту даже тогда, когда была очевидно неправа, и я, когда оказывался свидетелем разыгравшейся баталии, видел и понимал, что стоит ей сделать небольшой шажок навстречу, в чем-то уступить и всё будет хеппи-энд, но она не делала этот шажок, как будто чувствовала, что будут нарушены законы драматического действа. И хотя я внутренне и возмущался этими её сценическими ходами, ведущими к обострению отношений и накалу страстей (хоть бы пощадила самолюбие своего визави!), но, как рыцарь, защитить однажды попытался именно её. Моя дражайшая тетя решительно остановила поединок, отвела меня в сторону и серьезно предупредила, чтобы я никогда больше не вмешивался и что они сами между собой прекрасно разберутся (я бы на её месте добавил: без сопливых, но не было такого слова в её лексиконе). Этот комментарий прочитывался приблизительно так: "Потерпи, будет тебе хеппи-энд, но спектакль нужно доиграть до конца!"
И действительно: всё всегда заканчивалось как нельзя лучше и даже, как в народе говорят, полюбовно. От звона шпаг не оставалось и звука, от словесной дуэли и отголосков, а от разбитой посуды даже мелких осколков. Напротив, недавние противники сливались в союзе любви, которому могла бы позавидовать любая любовная пара, и потому, кажется мне, что это была не подслащенная, а настоящая любовь, назовем её – любовь с перцем. Позвольте, но стоило ли в таком случае ломать копья и разыгрывать комедь? А вот на этот вопрос я вам ответить не могу, да и вряд ли кто смог бы.
Мне приходилось бывать и в доме родителей дяди Васи. Это была во всех отношениях красивая пара. Мама его была просто красавица, и красоту свою сохранила до преклонного возраста (я посещал их в Германии в 2000-х годах). Кроме того, она была волевая и очень мудрая женщина. В их семье тоже царил матриархат, но совершенно иного свойства, иной модели. Их союз был гармоничным, интеллигентным и цивилизованным. Даже представить себе невозможно, чтобы меж ними мог быть разыгран спектакль, хоть отдаленно напоминающий баталию между их детьми.
Еще в глухое советское время, в 70-х годах, этой достойной паре удалось эмигрировать в Германию. Прекрасно устроившись в Фатерланде, они вызвали к себе детей, то есть дядю Васю с тетей Лидой. Дядя Вася почему-то наотрез отказался ехать и детям запретил покидать страну (к этому времени их детскую коллекцию пополнила Леночка). Он рассчитывал, что тетю Лиду это остановит. Но не тут-то было! Она собрала чемоданчик и, как у Высоцкого: "Потом уложит чемодан и – в Фатерланд, и – в Фатерланд!". А через некоторое время вслед за ней уехали и мои Geschwisterы: Витя, Ира и Леночка. И лишь через два-три года, убив в себе жалкие остатки гордыни, но внешне не подавая виду, с высоко поднятой головой в Фатерланд вступил мой неподражаемый дядя Вася. Вот это, я понимаю, спектакль! И сыгран, как по нотам! А чем не сюжет для фильма?! Куда там индийским мелодрамам до этого сногсшибательного сюжета!
Эту драматическую, чисто в её духе эпопею с великим переселением тетя Лида описала мне лично, приложив шикарную цветную фотографию: она, роскошная европейская женщина (а вкус у неё был безупречный, недаром работала в ателье), в Париже на фоне своего ярко-красного автомобиля (другого цвета у него просто быть не могло!), а вместе с автомобилем они – на фоне Нотр-Дам де Пари. И это в 81-м приснопамятном году! Как сказал мой коллега по кафедре: "Убиться веником, накрыться тазиком!" А остальные члены кафедры в один голос, как Вовочка в анекдоте, всхлипнули: "Хотим в Фатерланд!" Вот такая у меня космическая и космополитическая тетя.
Когда я с женой Любой посетил тетю Лиду в 94 году в курортном городе Бад-Бергцаберн (это приблизительно там же, где знаменитый Баден-Баден – излюбленное место отдыха русской культурной элиты), она посмотрела на меня и сказала сокрушенно: "В чем ты ходишь?! Тебе не стыдно!" Мы поехали в магазин, и она купила мне вызывающий, потрясающий воображение (моё, конечно) шортовый костюм, тропические пейзажи на котором затмевали окружающий ландшафт, а пролетающие мимо попугаи всё норовили усесться на одной из пальм на моей рубашке. Оглядев меня критическим глазом, тетя удовлетворенно сказала: "Теперь ты похож на человека, и с тобой не стыдно выйти в люди". И мы большим семейным шалманом отправились на весь день в аквапарк, который показался мне тогда Восьмым чудом света.
Последний раз мы с Надей (моей второй женой) посетили тетю Лиду десять лет назад и, уверяю вас, она была все та же: веселая, неунывающая, с живыми горящими глазами, в кругу многочисленной и многоярусной семьи и, как обычно, в центре внимания и событий. Мы сидели за большим круглым столом на просторной террасе, естественным продолжением которой был причудливой красоты садик, оформленный по всем правилам ландшафтного дизайна, пили замечательные рейнские вина и пели советские песни под аккомпанемент немецкой гитары, подаренной мне моими милыми сестрами.
Я уже говорил на страницах этих записок, что с детства мечтал стать военным летчиком, а в летное училище в те годы легче всего было попасть через аэроклуб. С этой целью я и приехал в Караганду. Когда я пришел в аэроклуб, мне сказали, что на отделение пилотов я смогу поступить на следующий год, когда мне исполнится 17 лет. А пока можно записаться в парашютную секцию. Но я почему-то проигнорировал это предложение.
Среднюю школу № 49, в которой мне предстояло учиться, только что построили, и в ней все было новым и свежим: стены, окна, классы, парты, столы, учителя и ученики. Школу, очевидно, решили сделать образцовой, да еще с физико-математическим уклоном, поэтому сюда были приглашены лучшие учителя города, и учеников собрали не самых слабых, по крайней мере, в наш 10-й класс. В классе было свыше тридцати человек, только парни. Девчата изучали науки в своем 10-м.
Классная мама у нас – Догаева Нина Михайловна, преподаватель немецкого языка. Английский все еще был не в моде, поэтому англичан было мало. Нина Михайловна поистине была для нас мамой: нянчилась с нами, как с малыми детками. Но не это меня поразило, в Вишневке Александр Эдуардович возился с нами не меньше. На первом же уроке немецкого я был обескуражен: куда я попал, в русский город Караганду или, может быть, в какой-нибудь Франкфурт-на-Майне? Что они себе позволяют: они, русские, свободно говорят по-немецки, а я, немец, их не разумею?! Невольно вспомнишь Высоцкого: «Он кричал: "Ошибка тут: это я – еврей!.." А ему: "Не шибко тут! Выйди, вон, из дверей!» На переменах наша классная шла не в учительскую, а бежала к нам и делилась тем, что успела узнать, увидеть, прочитать. И никаких наставлений, никаких нравоучений, с нами – как с равными. Нина Михайловна… – как много в этом звуке, в этом имени…



