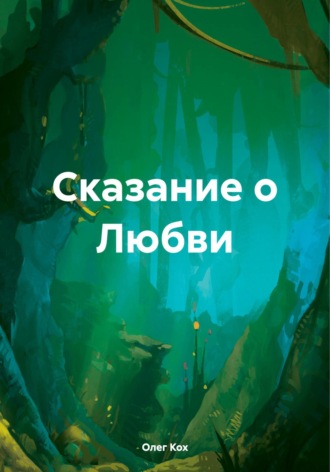
Полная версия
Сказание о Любви
…Это зимой. Летом обедами не увлекались, в остальное время суток предпочтение отдавали овощам, рыбе и молоку. Если мне хотелось чего-нибудь необычного, вкусненького, я шел к тете Фриде, которую очень любил, и наслаждался фасолевым или гороховым супом и разнообразной выпечкой: печеньем, пряниками и эксклюзивом с немецким названием "цокаплоц" – раскатанное и уложенное на противне сдобное тесто, посыпанное сверху пропитанной сахаром мучной крошкой.
Пришла пора рассказать подробнее о волгодоновцах: взрослых и не очень… Волгодоновку построили в 29 – 30 годах выкорчеванные с донских и волжских земель казаки (мама моя – волжская казачка). А в августе 41-го туда же вышвырнули советских немцев из Луганской области. Казаки и немцы быстро и крепко срослись. Объединила их не только общая беда, но и много общего в менталитете и традициях: честность, порядочность, трудолюбие, немногословность, стойкость, крепкий быт, морально-этические устои (я никогда не слышал, чтобы мужчины при детях и при женщинах матерились), полуспартанское, полупуританское воспитание детей (любой из взрослых мог не только сделать тебе замечание, но и отшлепать по заднице, а отец дома мог еще добавить; правда, это было крайне редко), украинские песни, наконец. А какие ставили спектакли в клубе! В основном юмористические украинские, иногда по маминому сценарию – она была заштатный поэт и драматург, а папа – режиссер и хормейстер.
Вот в такой атмосфере мы росли и в итоге получили: 1) надежные прививки от подлости, предательства, карьеризма, пресмыкательства, пошлости; 2) стремление к свободе, чувство справедливости, рыцарское отношение к женщине, неумение прятаться в кусты (даже если очень хочется); 3) приоритет духовных ценностей. Последнее – от родителей. Папа с мамой навсегда останутся для меня образцом альтруизма: он с радостью дарил людям изготовленную своими руками мебель, бесплатно строил дома, мама раздавала выращенные ею по науке эксклюзивные сорта помидор разных цветовых оттенков и размеров.
Были у нас и прирожденные артисты на селе, в том числе комедийного жанра, например, дядя Коля К., тетя Таня Б. и другие. От их лицедейства зрители покатывались со смеху.
Еще несколько слов о моем родном дяде Отто. Он был на редкость творческим человеком. Имея семь классов образования, он до всего доходил сам, читал техническую литературу, долго был главным инженером колхоза (а потом и совхоза) и, что называется, народным умельцем, Кулибиным, мог сконструировать что угодно. Когда на посту главного инженера его заменили молодые специалисты после сельхозинститута, он стал прекрасным огородником, на больших площадях выращивал для совхоза овощи и особенно прославился выращиванием бахчевых культур.
Когда я приезжал домой на каникулы из Казани, то всегда навещал своего незаурядного дядю. И, поверьте, приходил я к нему не ради галочки. Обычно немногословный и не проявляющий праздного любопытства, он с заметным интересом и, что мне особенно было лестно, с уважением расспрашивал меня об авиационной технике, о тенденциях в авиастроении, о студенческой жизни. Надо сказать, что мне не всегда было просто отвечать на его вопросы, и я невольно ловил себя на мысли, что не мне, а ему нужно было поступать в авиационный институт. Какой бы выдающийся авиаконструктор из него получился! А вот кулинарные пристрастия у нас с ним удивительным образом совпадали. Он угощал меня либо вареным карпом, либо отварной бараниной. Карпа мы запивали густой, настоянной ухой, а баранину – горячим насыщенным бульоном. Спиртные напитки дядя мой не употреблял и меня не угощал. Табак на дух не переносил. Такое редкое сочетание качеств для творца: природный конструкторский талант и отсутствие вредных привычек. Если к ним прибавить цельность натуры, силу характера и завидную работоспособность, то лучшего и желать не нужно.
И вот на фоне наших с ним высоких, взаимоуважительных отношений я однажды умудрился пасть так низко, что до сих пор одно только воспоминание об этом позорном падении вгоняет меня в краску. Как-то за мной заехал на своем “Запорожце” мой двоюродный брат Яша и позвал воровать арбузы. Только мы набили багажник и уже собрались уезжать, как откуда ни возьмись, будто из-под земли, вырос дядя Отто на своей “Победе”. Описать свое тогдашнее состояние нету ни слов, ни сил. Казалось, дядя наш был обескуражен и удручен больше нас. Он только и смог произнести с горечью: «Мне приходится гоняться за “чужаками”, а тут родные племянники грабят среди бела дня. Что, не могли приехать ко мне в сторожку по-человечески?!» Надо сказать, что мы в нашем селе были единственными, кто предпринял эту постыдную авантюру. А вот спроси нас, ради чего? Вряд ли мы смогли бы ответить. Ведь дядя Отто выращивал арбузы и дыни исключительно для жителей нашего села, и урожаи были такими, что их некуда было девать. Их солили в бочках, хранили навалом в кладовках, а с наступлением морозов – под кроватями.
Долгое время нашим совхозом руководил Б-й, кандидат сельскохозяйственных наук, широко образованный и эрудированный человек; с ним можно было говорить на любые темы. Наш совхоз он вывел на передовые позиции и не столько по производственным показателям (мы никогда не плелись в хвосте), а именно по новаторству: он все что-то экспериментировал. Его хорошо знали в области, неоднократно звали в Целиноградский сельхозинститут двигать сельскохозяйственную науку, но он долго не соглашался; потом все же сдался. Не люблю громких слов, но он буквально гремел своими достижениями. В совхозе Б-го очень любили, он не оставлял без внимания ни одной просьбы. Так, когда моих сестер, отличниц учебы, завалили в пединституте на вступительных экзаменах, он зарезал двух овец, поехал в Целиноград и с блеском решил проблему: девчат приняли даже без пересдачи. Восток – дело тонкое…
Хочется сказать и о сельских богатырях, то есть – не просто сильных, а очень сильных. Их было трое или четверо, в том числе мой дядя Отто. Но я расскажу об одном из них, потому что он был еще и редкого свойства шутником. Имя его – Роберт Рей. Высокий, крупный, но не толстый, без живота. Он ходил, доброжелательно улыбался и как бы спрашивал глазами: не требуется ли его сила. Роберт Рей не хвастался своей силой, он просто не знал, куда ее девать. Он очень любил публику и был скорее артист, нежели спортсмен-тяжеловес, был рожден для цирка, но не знал об этом. Роберт говорил, например, при большом скоплении народа: "Спорим на литр, что, не отрываясь, выпью ведро воды (12 литров)". Правила жанра требуют, чтобы кто-нибудь оппонировал спорщику, и, конечно, такой человек находился, хотя догадывался, что проиграет. Чрезвычайно довольный, утоливший жажду Рей Роберт с присущей ему душевной щедростью угощал всю честную компанию выигранным литром водки. Сам пил мало, чисто символически, а то сила уйдет – она не любит запаха алкоголя. Другой подвиг Геракла демонстрировался по тому же приблизительно сценарию, но в жертву вместо воды приносились 50 сырых яиц, причем роль была сыграна как всегда эффектно, не без артистического блеска.
NN-ые геракловы подвиги-фокусы опускаю, покажу "n+1"-й, фирменный, который Роберт продемонстрировал на моем родном дяде – тоже из когорты силачей, но в другой весовой категории, не менее 150 кг, что придавало фокусу особую остроту и интригу. Возле магазина, где и в обычное-то время многолюдно, а если появляется Роберт Рей, да еще весело и хитро всем подмигивает, – жди интриги. Из магазина выходит ничего не подозревающий дядя Отто, открывает дверцу солидной, респектабельной "эмки" (открывается исключительно вперед), грузно опускается на сиденье не менее грузной "эмки" (заимствован только корпус, остальное честно собрал мой дядя честных правил), заводит мотор, включает передачу… Стоп! Именно в этот момент Роберт Рей поднимает автомобиль за задний бампер, и… аппарат, как упрямый осел, ни с места. Задние колеса крутятся, а ехать – не хочут?! Дядя так же солидно (и бровью не повел) открывает дверцу исключительно вперед, не спеша несет свои 150 кг к заднему мосту, со знанием дела осматривает его, довольный осмотром, возвращается в авто, повторяет необходимые для приведения в движение транспортного средства операции, и опять – ни с места. Не знаю, сколько раз еще ходил бы мой честный дядя взад-вперед, а терпения и спокойствия у него на десятерых (никогда не видел, чтобы он, хотя бы внешне, выходил из берегов), но народ, невзирая на красноречиво прижатый к губам палец Рея Роберта, был уже не в состоянии сдерживать смех, хотя сдерживать старался изо всей мочи: как-никак уважаемый человек, главный инженер совхоза.
Ну и в заключение этой главы коротко об одноклассниках. До 5-го класса нас, Волгодоновских, было семь человек. В 5-й прибыло из Вячеславки (отделение нашего совхоза) четверо. После 6-го класса два Волгодоновских парня ушли учиться на трактористов, а две Вячеславские девчонки забеременели и родили малышей: одна – в 6-м классе, другая – в 7-м. Это я сейчас говорю об этом просто, а тогда это воспринималось как ЧП. Хорошие были девчата, но будучи доверчивыми и привлекательными, стали объектом внимания приезжих пацанов, со специальностями уже, но еще без мозгов и, как говорят урки, без понятий. Жалко девчат: остались одни, но детишек своих не бросили. Нас в Волгодоновке родители строже держали в этом отношении.
Итак, в 7-м нас осталось семеро. Эрвина А. и Сашку К-ва утром привозили, а после уроков увозили в Вячеславку на подводе. Как-то Сашке родители купили новые коньки, и он согласился продать мне старые. После уроков я сел на подводу и поехал в Вячеславку за коньками. Его родители накормили меня и никак не хотели отпускать. Но я обнаружил какое-то непонятное упрямство и отправился в путь. Смеркалось, а путь был неблизкий – 9 км, да еще мимо скотского кладбища (метрах в двухстах от дороги), где обычно справляли тризну голодные волки. Я осознал это позже, но вернуться не хватило силы воли. Мимо кладбища я проходил в кромешной темноте. Ну и натерпелся я страхов!
О спорте. Папа вел физкультуру и все спортивные секции: легкую атлетику, гимнастику, лыжи, стрелковую секцию. Все учащиеся в той или иной степени занимались всем (мы все учились понемногу…). И все эти виды спорта мы представляли на районных зимних и летних спартакиадах. Лично я выступал по следующим дисциплинам: бег на средние дистанции (400 и 800м), иногда прыжки в длину, лыжные гонки (5 и 10 км), где я всегда был фаворитом.
В этой связи примечателен случай. В 7-м классе я уступил лидерство братьям С-м и на спартакиаду не попал. Я попросил папу взять меня хотя бы запасным, но он отказал мне. Тогда я взял лыжи и пошел в степь тренироваться. Был приличный мороз (-25о), но главное, дул сильный жесткий ветер. После каждого трехкилометрового круга вьюга заметала лыжню, и она едва угадывалась. Я мобилизовал все свои резервы и яростно, со злостью, наперекор всем стихиям, ринулся накручивать круги. Это были даже не круги, а челночные рейды туда и обратно: туда – едва преодолевая ветер, обратно – под ветер. И вот, пробежав два круга, я стал задыхаться, т. е. в самом прямом смысле, мне не хватало воздуха. Потом воздух стал проходить через горло со свистом, но я упрямо сделал еще круга полтора. Наконец, горло заложило так, что воздух практически перестал поступать. И тут я испугался, до меня дошло, что я могу загнуться. Кое-как я доковылял до дому, все так же натужно, со свистом дыша, и слег с высокой температурой. Помню, что было очень стыдно. Провалялся я долго…
В конце этой главы, как итог детского периода моей жизни, хочется выделить главное. В становлении моем великую роль сыграла атмосфера, в которой мы росли, воля и бескрайние степные просторы. Тема степи – это для меня тема свободы. Как взору вольготно в степи, так и духу должно быть вольготно при его стремлении ввысь. Вершины нужно покорять внутри себя, и вершины эти беспредельно уходят в небо, как лестница, по которой ушел в небо Олег Янковский в фильме про барона Мюнхгаузена, как лестница Иакова, – не все это понимают. Не все понимают, что свобода – внутри нас, что можно быть свободным в тюрьме, и рабом – в роскошном особняке. Степной ковыль, ковыльная степь – особая субстанция, особая стихия, сколькими ассоциациями она откликается во мне. Прежде всего – воля, вольный ветер, наше босоногое детство на берегу Ишима, где мы, как гуси, пропадали с ранней весны до поздней осени. Нам не нужна была опека, да нам, слава тебе Господи, ее никто и не навязывал – не принято было. И все это осталось в нас, зацементировалось, помогло встать на ноги, окрепнуть и идти дальше. Может, в моих словах много патетики, но я не боюсь, потому что это правда, – тому много свидетельств впереди.
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
в детские годы мои.
"Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу".
Тихо ответили жители:
"Это на том берегу".
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор.
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
(Н. Рубцов)
Глава 4. Вишневка
Вишнёвка… В этом звуке –
надежда и печаль.
Вернуть бы всё на круги…
И – ничего не жаль!
К сожалению, мы вынуждены покинуть родную обитель. На сей раз дорога наша устремляется в райцентр Вишневка, на юг в сторону Караганды, и измеряется расстоянием в 30 километров. Мы, Эрвин А., Григорий С. и ваш покорный слуга, отправляемся в означенный населенный пункт продолжать образование в Вишневской средней школе. Можно было бы предположить, что своим именем Вишневка обязана обильным вишневым садам, произрастающим в этом селе. На самом деле ни вишневых, ни каких бы то ни было других садов мы там не обнаружили, во всяком случае, на тот исторический момент.
Я думаю, что родители отправили меня именно в Вишневку, а, скажем, не в Целиноград, который всего на 10 км дальше, потому что они в этой школе работали и потому что там работал их друг и коллега П-ко Иван Никифорович. Когда мы приезжали в Вишневку, а это случалось довольно часто, то останавливались у него в доме. Что называется, дружили семьями. Хозяйка этого замечательного дома Марья Касьяновна – гостеприимная, интересная и живая в общении женщина. С сыном Николаем я учился в одном классе, и он на правах аборигена и будучи сильнее физически опекал меня, особенно на первых порах. Дочь их Лариса была года на два-три младше нас.
Вишневка – довольно крупный населенный пункт для села, но недостаточно крупный, чтобы называться городом. Зато – районный центр, а это ко многому обязывает. Но ведь и правами подобные административные единицы обладают немалыми. Здесь и силовые структуры, и органы власти, и другие различные организации (Дом пионеров, например) и предприятия, парк культуры и отдыха, наконец. И, конечно, в отличие от Волгодоновки с ее патриархальным укладом и неспешным, размеренным образом существования, здесь гораздо сильнее ощущался ритм и пульс общественной, культурной и спортивной жизни. И географическое положение неплохое: с одной стороны река Ишим, с другой – на некотором удалении, достаточном, чтобы не слышать шума поездов и автомобилей, – железная и шоссейная дороги – две главные артерии, соединяющие основные областные и краевые центры Казахстана с его столицей.
Вишневская средняя школа… До 8 класса здесь учились только дети Вишневских жителей. А в 8 класс приезжали школьники со всего района, правда, только те, кто решил закончить среднюю школу. Большинство ребят шло в различные ПТУ. Особой популярностью пользовалось училище, где за два года приобреталась профессия "механизатор широкого профиля" (трактор + комбайн + автомобиль – по сути, три специальности). В Вишневской средней школе мы получали ту же профессию, но в течение четырех лет. В 8 классе изучали сельхозтехнику: плуги, сеялки, сенокосилки, в 9-м – трактор, в 10-м – комбайн, в 11-м – автомобиль. Заманчивая перспектива, не правда ли?
Такова участь районных средних школ – собирать под своим крылом учащихся со всего района. Но ведь ребята привозили с собой и те традиции, которые сложились в их школах, в их селениях, ту атмосферу, которой они там дышали, те нормы и правила поведения, которые они усвоили от родителей, от односельчан и в меньшей степени от учителей. Попробую как-то обобщить свои впечатления. В больших населенных пунктах люди более разнородные, более разношерстные, чем в малых, хотя бы потому, что народу больше и, главное, больше и разнообразнее предприятия, организации, учреждения, учебные заведения, в которых этот народ служит, работает, учится.
От братьев наших меньших мы унаследовали инстинкт сбиваться в стаи (самосохранение, продолжение и умножение рода – не буду перечислять все причины). Мы, как представители homo sapiens, значительно обогатили и усилили этот инстинкт рядом принципов: 1) принцип корпоративности, основанный на: а) местном патриотизме (бей чужих); б) единстве целей и задач (учеба в школе, училище); в) общности интересов (танцы, кино и прочие развлекательные мероприятия); 2) принцип самоутверждения (желательно за счет других), основанный на: а) избытке физической силы и недостатке интеллекта (сила есть, ума не надо); б) деятельности гормонов в растущем организме – с природой не поспоришь; в) лаконичном и выразительном языке русского фольклора. Наш 8-й класс, хоть и был многочисленным и разнородным, но в нем, как и в любом здоровом коллективе, культивировался корпоративный принцип, но и о втором не забывали. Ребята были крепкие: могли и за себя постоять и честь класса отстоять.
Внутри стаи особых противоречий и противостояний не наблюдалось. Были, правда, эпизодические бои местного значения. Как-то Вова П., высокий, но очень худой и нескладный и весьма флегматичный юноша позволил себе опасно пошутить над моим другом и земляком Гришей С., перешел, так сказать, границу всяческих приличий. В результате Гриша С. повредил стену в классе. Я считаю, что в нанесении ущерба виноваты оба: Гриша потому, что плохо прицелился, а Вова потому, что слишком худой (попасть трудно) и потому, что увернулся. Но это не в счет: что это за бой – никто серьезно не пострадал, за исключением Гришкиной руки. А так мы жили дружно, в кино и на танцы ходили стаей. Время было бурное, новаторское, я бы сказал, революционное. В обиход вошли такие слова, как стиляга, чарльстон, твист, а в моду – узкие брюки, нейлоновые носки, ботинки на толстой подошве, прически "ёжик".
Из учителей хорошо помню только классного руководителя Дукарта Александра Эдуардовича, который вел у нас физику. Благодарю Господа, что он хранил его все эти годы и сберег в ясном уме и трезвой памяти таким же интеллигентным, бодрым и оптимистичным, чрезвычайно трогательным и родным. Так бывает только с чистыми, бескорыстными людьми, посвятившими жизнь свою другим, в данном случае – своим ученикам. Мы с сыном имели счастье посетить его в Вишневке два года назад. Очень хотелось бы еще раз увидеться.
Перед глазами – образ учительницы математики (к сожалению, не помню её имени), волевого, умного и очень требовательного педагога. Остальных, к сожалению, не помню, но сохранились в памяти та здоровая, творческая и доброжелательная атмосфера, которую они создавали, и тот высокий уровень преподавания дисциплин, который позволил мне через два года быть на равных с лучшими учениками города Караганды, которых собрали во вновь открывшуюся физико-математическую школу.
Мы с Эрвином А. снимали квартиру не то у родственницы его, не то у знакомой его родителей, немки тети Марты. Это была добрая крупная женщина с бельмом на глазу. Двадцатилетняя дочь ее Лиза была неизлечимо больна врожденным пороком сердца. Она успела закончить семь классов, и врачи запретили ей дальше учиться, а работать тем более. Она выросла и стала непомерно высокой, но поведение и сознание у нее остались детскими. Так, наверное, бывает с людьми, не обремененными никакими делами и заботами и поэтому не подверженными никаким волнениям и тревогам. Тетя Марта предупредила нас, что Лизе ни капельки нельзя волноваться и что любое расстройство может оказаться для нее последним. Так серьезно обстояли с ней дела. Надо сказать, что у Лизы был счастливый характер для этой роковой болезни: она была беспечна и весела. С нами, четырнадцатилетними, на равной ноге. У нее был большой арсенал всяких игр, и мы много играли, в том числе в карты. Она не расстраивалась, когда проигрывала: ей был интересен сам процесс игры. Я не помню, чтобы Лиза выходила на свежий воздух, она фактически была затворницей. Цвет лица у нее поэтому был бледный, слегка отливающий синевой, которую усиливал контраст с длинными черными волосам. Черты лица правильные, нос прямой, губы тонкие, глаза умные, улыбающиеся. Для такого образа жизни она была достаточно эрудированной, много читала, в основном мелодраматические романы со счастливым концом, неплохо играла на гитаре. Но случались иногда и депрессии, и тетя Марта в такие минуты была при ней и своим спокойствием выводила Лизу из этого опасного состояния. Она знала, что дочка ее обречена, и это временами отражалось в ее глазах какой-то неуверенностью и тревогой. Но от Лизы, убежден, она это скрывала. Поэтому тетя Марта не работала, и единственным источником дохода были квартиранты.
Кроме нас с Эрвином, у тети Марты снимали жилье двое рабочих, которые, насколько я помню, работали на стройке. Дом был большой, разделенный на две сообщающиеся половины, но с отдельными входами. Квартирантская половина состояла из небольших сеней и двух комнат. Одна из них – большая, проходная, в ней жили рабочие. Другая, в которой жили мы с Эрвином, была значительно меньше. В нашей комнате стояли две кровати с тумбочками и рабочий стол. В большой комнате, кроме внушительных размеров стола, располагались печь, обогревающая всё квартирантское крыло, и плита, на которой тетя Марта готовила нам с Эрвином пищу из привезенных нами из дома продуктов. Рабочие днем питались в столовой, а по вечерам дома жарили картошку и гоняли чаи. Скоро и мы по настоянию этих ребят переместились из своей комнатушки в их огромную, похожую на манеж комнату. Здесь мы с Эрвином выполняли домашние задания и забавлялись играми с Лизой.
Один из этих замечательных ребят сыграл в моем возмужании, если можно так выразиться, весьма позитивную роль. Звали его Виктор. Это был молодой, недавно отслуживший в армии парень. Среднего роста, коренастый, мускулистый, он, если не ошибаюсь, занимался гиревым спортом. Во всяком случае, дома у него были гири (не считая гантелей, эспандеров и пр.) разных калибров, и он играл ими, как мячиками. Регулярно занимался зарядкой и в любую погоду обливался во дворе холодной водой; спиртного в рот не брал. Виктор и нас приобщил к физкультуре. Утром, хочешь не хочешь, вставай и выполняй довольно емкий комплекс упражнений. И – марш на мороз освежиться ледяной водой. А куда денешься: он же тяжелоатлет. Тысячу раз говорю Виктору: спасибо! За два года я так втянулся в эти физкультурные занятия, что в Караганде выполнял их на автопилоте, правда, обливался не на улице, а в ванной, но зато под ледяным душем, а это, кто пробовал, гораздо острее.
Другой рабочий был значительно старше Виктора. Ему было не больше 50-ти – иначе вряд ли его взяли бы на стройку, – но выглядел он старше своих лет, вероятно, потому, что регулярно употреблял веселые напитки. Ну он поэтому и был веселым человеком. Мне всегда хотелось называть его "дед Семен", но он был категорически против столь почетного звания и согласился на более скромное – "дядя Семен". Отдаленно он напоминал актера, сыгравшего деда Щукаря в "Поднятой целине", но актер этот сильно позавидовал бы дяде Семену. Он был небольшого роста, худой и как бы усохший старикашка, на узких сутулых плечах которого уютно устроилась небольшая и очень подвижная голова. У него вообще все было небольшое и подвижное. Почти всегда навеселе, он постоянно что-то оживленно рассказывал, щедро помогая себе мимикой и жестами. При этом в нем и на нем все ходило ходуном: руки, ноги, голова, тулово – как на шарнирах. На загорелом лице белыми волнами ходили морщины, бегали глаза, в глазах вспыхивали искры.
У дяди Семена был приличный запас всяческих былей и небылиц на самые различные темы, но чаша весов всегда склонялась к морской теме. В свое время он служил в морфлоте, отлично знал азбуку Морзе и с энтузиазмом обучал этому секретному языку нас с Эрвином. Он вообще считал, что нет ничего интересней и загадочней этого немого магического языка, на котором можно общаться, не прибегая ни к каким техническим средствам, ни к каким знакам и даже звукам. Была бы его воля, он вообще отменил бы все иные языки и все иные способы общения. Дядя Семен приносил обычно с собой после работы бутылочку вина и потихоньку тянул ее в течение вечера. Будучи человеком от природы нежадным, он и нам предлагал этот тонизирующий напиток. Думаю, что мы с Эрвином не отказали бы себе в удовольствии попробовать (только попробовать, что в этом такого?) волшебный напиток, от которого человеку становилось легко и весело. Здесь был явный пробел в нашем воспитании: курить – курили, а вот напитки, без которых не может обойтись ни одна гулянка, как-то прошли мимо нас. Но мы постоянно находились под бдительным оком Виктора, а впасть в немилость к нему никак не входило в наши планы.



