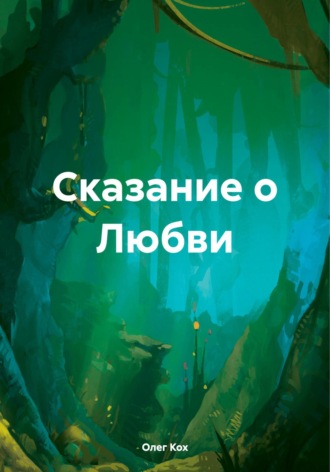
Полная версия
Сказание о Любви
Через два года, когда я продолжал образование в Вишневской средней школе, я понял, откуда эти песни, кто является их основным носителем и распространителем. Недалеко от Вишневки, на противоположном берегу Ишима (как раз в сторону Михайловки), был "закрытый" рудник, где работали зеки, добывали какой-то стратегический металл. Зеков надо охранять, значит, нужны военные. Там и стояла часть. В нашем классе учились два пацана: Володя Е. и Володя Т. – сыновья офицеров из этой части. Е. был стилягой, носил узкие брюки трубочкой и светлые волосы ёжиком. А вот Вовка Т. обладал более ценными талантами: был рыж и веснушчат, из-под его прически "аля Гитлер" смело смотрели познавшие жизнь глаза, в которых постоянно блуждали озорные искры. Он косил под блатного, ходил шаркающей походкой и почти открыто распевал блатные песенки, в том числе с порнографическими картинками и русским фольклором. Он знал их уйму, исполнял мастерски и совершенно естественно, как будто то, о чем он пел, происходило с ним самим. Само собой, я жадно накинулся на Т. и за два года учебы в Вишневке значительно пополнил свой романтический арсенал. Позже, в Казани, с головой уйдя в мир самодеятельной песни, я увидел много общего у этих двух жанров. Недаром все уважающие себя барды имеют в своем репертуаре блатные песни (Визбор, Окуджава и особенно Розенбаум и Высоцкий, последние вообще начинали с блатных).
…Близость "зоны" к Михайловке и, вследствие этого, ее культурологическое влияние на подрастающее поколение и, наоборот, значительная удаленность Волгодоновки от этого мощного родника русской фольклорной песни и является главным преимуществом одного села перед другим. Смею предположить, что у родителей Светланы был другой взгляд и другое отношение к такому уникальному культурному пласту, как блатная песня, и они отправили нашу героиню куда подальше, чтоб избавить от дурных влияний. А может, наоборот, с целью распространения и популяризации редкостного жанра. Но мы, не оперившиеся еще птенцы, хватали все на лету и, безусловно, были на вершине блаженства.
Я, наверное, так и не осмелился бы признаться Cветлане в любви, просто не знал, как это сделать, да и не уверен был в ответных чувствах, если бы она сама не сделала первый шаг. Она через кого-то передала мне записку следующего содержания: "Ты мне нравишься. Давай дружить". Предложение дружбы означало признание в любви. Я был на седьмом небе. Много раз перечитывал перевернувшее все во мне послание и слышал ее голос. Началась фантастически счастливая полоса в моей молодой жизни, полеты во сне и наяву. Все продолжалось как обычно, наш тесный круг собирался и функционировал по-прежнему, но теперь все знали, что я и Светлана – одно. Мне и в голову не могло прийти, что надо мной сгущаются тучи, что мне собираются подрезать крылья. Что-то такое витало в воздухе: ребята намекали мне, что вокруг нас со Светланой идет какая-то мышиная возня; но я был слеп и глух.
В один прекрасный зимний вечер я шел из кино домой и вдруг услышал топот за спиной. Каким-то шестым чувством я понял, что это по мою душу, но не обернулся: тренировал волю, наверно. Некто налетел на меня и, используя накопленную кинетическую энергию, сбил с ног. Надо признаться, что драться я не умел и не любил ("бить человека по лицу я с детства не могу"), но от опасностей не бегал и достоинство свое старался не ронять. Делом чести было разобраться в инциденте. Я вскочил и побежал за быстро удаляющейся фигурой в сторону клуба. Ночь была – хоть глаз выколи. Ребята, находящиеся возле клуба, сказали, что это Сергей Б.
Злоумышленник был идентифицирован, и этого пока было достаточно, я побрел домой. Во мне все клокотало, больше, наверное, оттого, что налет на меня исподтишка был актом подлости и низости. Я видел, что Сергей на Светлану неровно дышит, но такого подлого нападения не ожидал. Этот герой, будучи выше и крупнее меня, был далеко не храброго десятка. Но каково было мое удивление, когда в ответ на требование сатисфакции на следующий день он жалко пролепетал, что меня заказал мой лучший друг и боевой командир Иван Г. Иван извинялся, оправдывался, но дружба наша развалилась. Эта история закрепила мои позиции в глазах Светланы, но я бы предпочел, чтобы она вовсе не имела ни места, ни времени. В течение этого и следующего года больше никто не пытался перейти нам со Светланой дорогу.
…Она ушла сама. "Ушла… Завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной…" (Н. Гумилев). Причем ничто не предвещало разлуки. Вот как это было. В конце седьмого класса мы, как обычно, поехали в райцентр на комбинированный смотр-конкурс (спартакиада, художественная самодеятельность и пр.), который проходил два-три дня. Был теплый майский вечер. Мы гуляли в замечательном Вишневском парке. Вдруг, как молния, пронеслась весть: мой друг и одноклассник Григорий С. изменил своей невесте Люсе С., с которой дружил много лет, и встречается со Светланой. Это была трагедия. Переживал не только наш близкий круг, но и другие ребята. Люся, вся в слезах, бросилась ко мне на шею и буквально рыдала. Я впервые видел ее такой. Всегда сдержанная, ироничная, созерцательная, самая начитанная в школе, она была еще и на редкость красива. Я держал ее в объятиях и испытывал неожиданно блаженное состояние. Вот те раз, подумал я, что же это такое?! Когда и как в мой тщедушный организм без моего ведома забралось это запретное чувство и в каких тайниках моего существа хранилось? Ведь Люся – невеста моего друга. Забыв о своем горе, я, как мог, утешал ее и, думаю, был искренен и верил в то, что говорил: мол, это случайность, все пройдет, все вернется на круги своя.
Не вернулось. Лето я провел в переживаниях, которые несколько приглушила работа на сенокосе в той же самой, вовсе не расположенной к унынию компании братьев С. С Гришкой все лето не встречался и не разговаривал, но как бы ни было мне кисло, я признавал за ним преимущества: высок, красив, силен, надежен. А к новому учебному году как-то все перегорело, улеглось. Ну что тут поделаешь, такова была Светлана: она была свободной и сама выбирала, что ей нужно, и на этот раз инициатива принадлежала ей. А мы с Гришкой отправились в Вишневку в восьмой класс, и дружба наша не претерпела урону. Каждые выходные мы приезжали домой в родное село, ходили на танцы, я играл на баяне и спокойно, может быть, даже с удовольствием смотрел, как Григорий со Светланой танцуют твист. После окончания Волгодоновской семилетней школы Света продолжила учебу в Целинограде, а я уехал в Караганду и не встречал ее боле.
И вот на первом курсе Казанского авиационного института я неожиданно получаю письмо от Светланы, в котором она предлагает возобновить дружбу. Не скрою, что-то всколыхнулось и заходило волнами в моем организме. Мы переписывались, письма были теплые с обеих сторон. Я был несколько сдержан, старался не расплескать "капли датского короля" из наспех склеенного сосуда и надеялся, что чувства наши воскреснут и постепенно окрепнут. Но вскоре я понял, что что-то главное все же утеряно, что драгоценные капли ускользают из плохо склеенного бокала. Врать не хотелось, но и признаться в своей нелюбви не было сил. Да и как в письме объяснишь, что внутри ничего (неужели-таки ничего?) не осталось и не за что зацепиться. Решил дождаться каникул, чтобы при встрече, прямо и "честно" глядя в глаза, постараться найти какие-то необидные слова.
Летом произошла эта горькая встреча. Я повез Светлану на мотоцикле за какие-то речные повороты, за какие-то сопки, в какие-то неведомые дали, как будто бежал от чего-то. И наконец встряхнулся, остановил этот бессмысленный бег, инсценировав поломку мотоцикла. Мы шли пешком, я вел злосчастный мотоцикл, который ни в чем не был виноват, и малодушно лепетал, что она – красивая, классная, что я ее недостоин, и еще какую-то чушь. А она шла рядом и молчала. И все сникала, сникала… И было так жалко ее и так тошно… Лучше бы она обругала меня последними словами, ударила по физиономии – всё легче было бы… Потом я не раз вспоминал Светлану и думал, что, может быть, зря оттолкнул ее. Больше мы не встречались, и я никогда не интересовался, где она и что…
Что читали и как учились… Читали до обидного мало, практически – ничего. Странно, что в нашем учительском доме почти не было художественных книжек. Несколько сборников русских народных сказок, "Всадник без головы" Майн Рида и "Город Солнца" Кампанеллы. Больше не помню. Позже мама говорила, что в школьные годы перечитала всю зарубежную классику, не говоря о русской. Она также говорила, что хотела стать журналистом, но накануне войны не хватало учителей и ее, отличницу учебы, оставили в школе учителем русского языка и литературы. Потом, после войны, два или три года училась в заочном пединституте, но не закончила. Мама всегда что-то сочиняла: стихи, пьесы. Она показывала мне написанные ею на газетных листах, между строк, сочинения – не хватало бумаги во время войны. Потом был многолетний перерыв в писательском творчестве. В 90-х годах, имея за плечами солидный пенсионный и атеистический стаж, мама неожиданно уверовала в Господа, как говорят баптисты, приняла в сердце Иисуса Христа, и из нее прямо-таки фонтаном брызнули стихотворения и поэмы на религиозные темы. Были и вполне приличные. Регулярно печаталась в христианских изданиях в Германии.
Папа же имел солидное по тем временам педагогическое образование – Запорожское педучилище. Во второй половине 50-х годов, после окончания строительного техникума, он поступил в Алма-Атинский иняз, но – не доучился. Два раза в год нужно было ездить на сессию, как мальчишке, испытывать стрессы при сдаче экзаменов и прочие неудобства. Папа все делал осмысленно. Он говорил, зачем мне английский, который я никогда не буду преподавать. И вместе с тем он шутил по поводу того же английского (со слов преподавателя): чтобы научиться говорить на этом языке, нужно перекатывать во рту горячую картошку. Картошку-то он перекатывал, но язык не поддавался освоению. Пришлось бросить обучение, и не истязать себя и картошку. К тому же у него было любимое дело, которое влекло его, – строительство.
Насколько я помню, родители художественных книг не читали. Не помню также, чтобы они читали мне что-то в детстве. То ли некогда было, то ли не выработали привычку. Они с утра до вечера пропадали в школе, по вечерам проверяли тетради. Вижу их сидящими за столом и что-то мирно обсуждающими. Чувствовалось, что работу свою они любят.
Сказки я перечитал в младших классах, и, надо сказать, для меня это был хоть и сказочный, но реальный и волнующий мир, который оставил глубокий след в моей впечатлительной душе. Майн Рида и Кампанеллу прочитал в старших. Особенно сильное впечатление произвел на меня "Город Солнца". Для меня то, что происходило в этом городе, не было утопией, а было вполне реальным, естественным, осуществимым и желанным образом жизни. Я был уверен, что только так и нужно жить – и никак иначе. И в дальнейшем эти идеи в какой-то степени владели мной.
Я совершенно не помню, что мы проходили по литературе в старших классах, что читали по программе, а может, такое чтиво и вовсе не предусматривалось? А ведь в 6-м и 7-м классах русский и литературу вели профессионалы с высшим педагогическим образованием: в 6-м – Таиса Григорьевна из Москвы, в 7-м – Ольга Константиновна из Свердловска. И девушки были интересные, симпатичные, неординарные, одним словом, – пришельцы из других миров. Таиса Григорьевна к тому же – боевая, с огоньком, отчаянно гоняла на мотоцикле. Ольга Константиновна – задумчивая, мечтательная и… очень красивая. Их уроков ждали, несмотря на то что они были строги и спуску нам не давали, да и стыдно было мямлить у доски перед представительницами прекрасного пола возрастом ненамного старше нас.
Русский язык был моим любимым предметом. Мне нравились стройные правила и четкие определения – я до сих пор их помню. Именно здесь были заложены основы грамотности, которая доныне ассоциируется у меня с санитарно-гигиеническим состоянием, так же, кстати, как и нравственность.
Другим любимым предметом была математика, в которой я вижу много общего с русским языком: стройность математических систем, четкость правил и определений, неумолимая логика доказательств теорем.
Во что мы одевались… Обязательной школьной формы тогда, конечно, не было, но на нескольких человечках и на мне в том числе то ли со 2-го, то ли с 3-го класса красовалась мышиного цвета форма с блестящей, как у солдат, бляхой и даже военного образца фуражка с кокардой. Помню, носил ее с удовольствием и даже гордился ею. Но мы по сути своей были неформалы и в старших классах все же отказались от псевдовоенного обмундирования. Тем не менее одевались просто, неброско. Стильная одежда, главным призванием и назначением которой был эпатаж, стремление отличиться, выделиться, накрыла нас за стенами нашей скромной семилетней школы.
До 5-го класса почему-то всех стригли наголо, но нам ничего иного не оставалось, как набраться терпения в ожидании лучших времен. Верхняя одежда: зимой – пальто с меховым воротником и шапка-ушанка, в неурочное время – фуфайка. Демисезонной одежды не помню. Первый цивильный костюм мне справили в 7-м классе. Обувь: зимой – валенки, весной и осенью в ненастье в младших классах – нелюбимые резиновые сапоги, в старших – вожделенные кирзовые, в сухую погоду – черные ботинки. Здесь нужно пояснить, почему мы не любили резиновые сапоги. А всего-навсего потому, что детские резиновые сапоги наши отлиты были не по форме взрослых мужских, а по модели женских, и нам казалось, что ходим мы в "девчачьих" сапогах, что, согласитесь, было унизительно. А в пользу кирзовых говорить нечего, ибо это была прославленная в военных походах обувь советских солдат.
Школьные принадлежности в младших классах носили в специально сшитых сумках с лямкой через плечо (портфели были не у всех). Чернильницы-непроливайки и сменную обувь (только в грязь) транспортировали в других сумках с затягивающимся горлом. В старших классах уже у всех, конечно, были портфели.
Летом, как я уже свидетельствовал, одежда была простой и непритязательной до минимализма – трусы, а обувь – не обременительной, не имеющей срока давности и межремонтного ресурса. Название ее – "босиком". Впрочем, на излете нашей Волгодоновской школьной жизни физически необременительная одежда стала обременять нематериальную субстанцию – сознание. К тому же весьма ощутимым стало дыхание цивилизации, и хоть до узких брюк мы еще не доросли, но стильные ботинки на толстой подошве, стилизованной под манную кашу, уже заковали наши свободолюбивые босые ноги. А как вольготно и тепло было зимой в валенках.
Что ели… Никаких буфетов в нашей школе в то время не было. Сухие пайки с собой в школу не брали. Завтракали вместе с родителями. Кусочек колбасы собственного производства, реже деликатесы: окорок или сальтисон – свиное мясо, промолотое в желудковую оболочку вместе со свиной кожей, и так называемый кофе – молотое жженое пшеничное зерно (по-немецки – препс). Бутерброды намазывали не маслом, а смальцем (если обратить внимание на слово "бутерброд" – нонсенс).
Зимой корова давала молока мало, его едва хватало на импровизированный кофе, а перед отелом, ближе к весне, и вовсе прекращала доиться. После отела молока было вдоволь, но масло ели редко, а в приготовлении пищи вообще не использовали, так же, как и растительное. Подсолнечное масло использовали как деликатес, макали в него, круто посоленное, хлеб, картошку, иногда им заправляли овощные салаты. Масло, и коровье, и растительное, заменял смалец; на нем жарили-парили-тушили – картошку-рыбу-мясо и прочее…
Коровье масло в основном сдавали государству. Этот продукт сбивали на самодельных маслобойках, сконструированных и изготовленных папой. У нас было два варианта конструкций: мельница и поршневого типа. Но сначала молоко пропускали через сепаратор – довольно сложный агрегат, в котором использовался центробежный принцип: легкие сливки оставались ближе к центру вращения и стекали по одному желобу, а более тяжелая фракция – "обрат" отбрасывалась на периферию и стекала по-другому. Во вращение сепаратор приводился рукояткой. Скисшими сливками, сметаной, заряжалась маслобойка. Эти волшебные процессы превращения одной фракции молока в другую и затем – в третью были исключительно моей прерогативой. Из закисшего обрата делали творог (в магазинах он называется "обезжиренный"), но творогом этот продукт мы никогда не называли. У нас его величали сыром; говорили, например: "вареники с сыром". А настоящий сыр я попробовал только в студенческие годы, и, надо сказать, он мне крайне не понравился.
Одно время сдавали не масло, а молоко, которое увозили в райцентр на молокозавод, превращали в масло, консервировали креолином и благополучно возвращали на круги своя за немалые деньги (наверное, компенсировали стоимость креолина). Масло было с неприятным привкусом, зато фабричное. Однажды креолина переборщили, и масло пришлось выбросить: даже свиньи отказались есть.
Вынуждены были также сдавать годовалых телят и свиней на мясо – живым весом. С освоением целины свиней вроде перестали экспроприировать, а бычков принимали у крестьянского населения еще долго. До середины 50-х годов сдавали также яйца и птицу.
Одно время наша семья держала овец, но недолго, года два или три. Сдавать овец государство не обязывало сельских жителей, а успехом у родителей (да и у других немцев) баранина, как видно, не пользовалась. Лично я баранину уважал и поесть ее вволю мог только у дяди Отто, который держал этих библейских животных постоянно.
Количество крупных животных в личном хозяйстве регламентировалось: одна корова (одно время Хрущев разрешил эксплуатировать двух, но быстро одумался) и две-три свиньи. Количество другой живности регламентировали время и корма: первого всегда не хватало, а второе не всегда было просто добыть.
Впрочем, птицы разных калибров у всех было вдоволь – сколько вырастишь. Диетическое птичье мясо, всеми любимое и предпочитаемое, ели в осенние месяцы. Варились благовонные куриные супы, неповторимый аромат которых уносился далеко за пределы села, жарились гуси, утки, у некоторых – индюки (мы не держали). Несколько тушек уток и гусей с наступлением холодов замораживали. Одно- или двухгодовалого бычка резали в декабре-январе, как правило, на две семьи. Одну свинью приговаривали с наступлением морозов (в ноябре), другую – в феврале-марте. Немцы вообще предпочитали свинину любому другому мясу, так как из нее можно было сделать массу вкусных продуктов и даже деликатесы.
Закалывание свиньи и следующее за этим производство мясных изделий у немцев – это специальный ритуал, подчиненный строгому иерархическому распорядку и регламенту, с скрупулезной расстановкой участников ритуала по местам в соответствии со специализацией, с точным расписанием технологических операций. Название этого действа – "резать (колоть) свинью" или Schweinfest – свинячий праздник. У нас сформировалась специальная бригада: Альберт и Алиса Розенфельды, Поль Роберт и Фрида, Кох Отто и Ида, папа с мамой и баба Кохша – итого девять человек.
Накануне, с вечера, папа доставал из потайного места комплект специальных ножей разных калибров (7 – 10 штук), выкованных колхозным кузнецом дядей Альбертом Розенфельдом из тракторных клапанов и ножовочных полотен, и правил их на кожаном ремне, как опасную бритву. Среди них был самый главный и самый большой обоюдоострый с острым концом нож, с помощью которого закалывалась свинья. Готовилось несколько мясорубок с многочисленными насадками для изготовления колбас (не меньше 5-ти сортов) и сальтисонов; большие семилитровые чайники для окатывания туши кипятком; большие десятилитровые и огромные трехведерные алюминиевые кастрюли. Мясорубки, как и ножи, использовались только в этих исключительных случаях. В специальных бочках приготавливались рассолы для засолки окороков и сала. Этим эксклюзивным ремеслом занимались дядя Альберт и дядя Роберт. Они же закалывали свинью. Папа также готовил деревянные приспособления и веревки для подвешивания туши. И т. д. и т. п. Свинью сутки до экзекуции не кормили.
К пяти утра все были в сборе. Но мы, хозяева, вставали гораздо раньше. Папа затапливал обе печи: на кухне и в сенцах, мама кипятила уйму воды, я был на подхвате. Кто-нибудь из женщин тоже приходил пораньше и помогал маме. Папа еще раз проверял, чтобы все необходимое было на месте. И ровно в пять комбинат начинал работу. Командовал парадом неизменно дядя Альберт. Делал он все легко и весело, с шутками и прибаутками, что-нибудь скажет и весело, заговорщицки подмигнет, улыбка никогда не сходила с его озорного лица. Свинью кололи непосредственно в ее загоне, потом с помощью приспособлений подвешивали за задние ноги к потолку. Первая технологическая операция была выполнена и обязательно отмечалась специальной металлической пятидесятиграммовой стопкой водки по кругу, тут же – в пригоне, и только мужики.
Потом с висящей вниз головой туши ножами соскабливали щетину, постоянно поливая ее крутым кипятком из чайников (кипяток носили женщины) одновременно с обеих сторон. В более поздние годы тушу сначала до синевы обжигали паяльной лампой, а затем скоблили, поливая кипятком, ножами. Завершалась эта ответственная гигиеническая процедура второй стопкой по кругу. Следующая операция: разделка туши (мужики) и промывка кишок и желудка (женщины). В процессе разделки изнутри вырезалось особо нежное мясо, которое почему-то называлось "шашлыком" и предназначалось для приготовления завтрака.
На этом заканчивался первый (назовем его – пригонный) этап и где-то в районе 8-ми часов утра мужики с чувством исполненного долга отправлялись на завтрак, где воссоединялись с женской бригадой и где их ждал дымящийся шашлык. Выпивалась всеми индивидуальная рюмка водки (мама пила вино), и на питие веселых напитков налагался запрет до обеда. Дальше начинала работать фабрика. Каждый был на своем месте и знал, что надо делать. Но прежде весьма любопытно взглянуть на исходную картину, напоминающую знаменитые натюрморты фламандских живописцев. На столах в определенном порядке лежали большие куски освежеванного мяса, в боевой готовности находились мясорубки с различными насадками, на которые будут нанизываться оболочки будущих колбас, а на одну из них – желудок для сальтисона. На плитах, на кухне и в сенцах, в ожидании стояли алюминиевые кастрюли для вытапливания смальца, варки колбас и сала.
…И пошло-поехало: от кусков мяса отделялось сало (иногда сало снималось на первом этапе с висящей туши), резалось на небольшие кубики и отправлялось в трехведерную кастрюлю для вытапливания. В мясорубках прокручивалось мясо и ливер и поступало в кишечные оболочки. Ливерные и часть мясных колбас вываривались в алюминиевых кастрюлях, а другая часть гирляндами вывешивалась в холодной кладовке в холодном виде. После варки к ним присоединялись остальные, в том числе кровяная. Особо готовился сальтисон – что-то вроде чувашского шартана, но, на мой непритязательный вкус, изысканнее и ароматнее. К сожалению, я не могу предложить гурманам технологию этого деликатеса. Помню, что мясо вместе с небольшим количеством свиной кожи варилось в специальном растворе со специями и затем пропускалось через мясорубку в желудковую оболочку. Часть мяса, предназначенная для борщей, заливалась водой, замораживалась и отправлялась на чердак. Параллельно дядя Альберт с дядей Робертом солили в бочонках сало и окорока. И так далее и тому подобное – всего не вспомнишь и не опишешь… Комбинат заканчивал работу в 8 – 9 часов вечера, и трудовой день, конечно же, увенчивался застольем. Излишне говорить, что всё делалось на подъеме, с вдохновением и хорошим настроением, с непрекращающимися разговорами и неиссякаемыми шутками. Словом, это был настоящий праздник – Schweinfest.
Однако вернемся к дневному рациону. На завтрак, как я уже говорил, – что-нибудь мясное, бутерброд со смальцем и кофе на жженой пшенице. Обедал я сначала в гордом одиночестве, потом, когда сестры пошли в школу, – вместе с ними. Я снимал со стоящего на плите чугунка фуфайку и разливал по алюминиевым или эмалированным мискам еще горячий борщ. Лично я съедал его всегда с большим аппетитом (мама называла его "украинский" и готовила мастерски) вприкуску с огромной луковицей. Мясо таким успехом не пользовалось, а когда со временем желтело и приобретало несколько ржавый привкус, вообще становилось обязаловкой; но оставлять что-то в мисках, кроме костей для Тузика, не полагалось. К тому же мы числили себя членами "общества чистых тарелок", которое учредила мама. Не полагалось также оставлять кусочки хлеба.
Папа с мамой приходили позже, но борщ был все еще горяч. Вечером ели либо жареную картошку с колбасой и солениями, либо, реже, пшенную кашу, с молоком и без – кому что нравилось. В воскресные дни меню было разнообразнее: пельмени, супы из птичьего мяса, вечером фирменное немецкое блюдо "шокентильти" – нарезанное полосками бездрожжевое тесто, отваренное с картошкой и заправленное изрядным количеством растопленного смальца с жареным мясом или салом.



