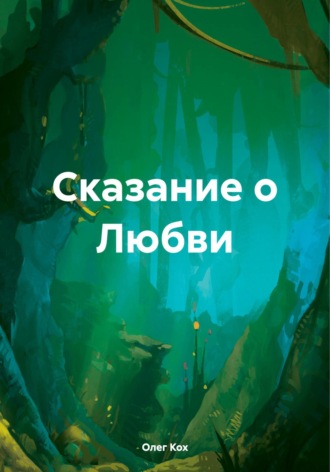
Полная версия
Сказание о Любви
Ремонт полотен – переклепывание и заточку ножей – производил хромой дед Кузьма, а ежедневное техобслуживание (смазку подшипниковых узлов шприцами) и мелкий ремонт своих стальных коней делали мы сами. Очень скоро мы и клепать ножи научились мастерски, но заточка ножей осталась прерогативой деда Кузьмы.
Если стан наш стоял на озере, то дед Кузьма готовил к обеду ведро тройной карасевой ухи, то есть три раза менял карасей. Ничего вкуснее я ни до, ни после не едал. Все уплетали только бульон, а я до отвала наедался вареной рыбой. Особенно мне запомнилось одно крошечное, но глубокое озерцо: ну просто яма, наполненная кристально чистой водой. Дед Кузьма при нас вытаскивал из этой ямы сплетенную из ивовых прутьев самоловку (на Волге ее почему-то называют "мордой"?), битком набитую карасем.
Так что жили мы вкусно и весело – неповторимая романтика. Весь день на свежем воздухе, под палящими лучами солнца, которого не замечали, бороздили мы родные просторы переливающихся седым ковылем, волнующихся, как море, казахстанских степей. На марше, не сбавляя скорости, обривали сопки. Озера обкашивать не любили, так как под высокой травой не видно камней и скорость гораздо меньше, зато сена значительно больше. Конечный результат оценивался в центнерах собранного сена. За нами с некоторым временным интервалом, необходимым для просушки скошенной травы (примерно через день), шли широкие грабли, сгребающие сено в валки. Затем тракторы-копноукладчики формировали копны, которые вывозились грузовиками со специальной платформой. Но нормы выработки устанавливались все же на скошенные площади. Норма на площадь, а денежки за центнеры. Деньги нас, пацанов, не очень волновали, по крайней мере, разговоров об этом не вели, но выполнить норму было делом престижа. Не всем моим сверстникам повезло так же. В совхозе работал еще один такой экипаж.
После работы ходили в новый клуб на танцы, в кино на вечерние сеансы и, главное, убивали время за игрой в бильярд. Я стал просто фанатом этой игры, целыми вечерами пропадал в бильярдной и довольно быстро стал приличным игроком. Играли обычно пара на пару на вылет. В бильярдной всегда была очередь. Взрослые старались войти со мной в альянс, чтобы спокойно играть весь вечер до кино; часто и про кино забывали. Редко кто мог вышибить нас из седла.
Но однажды нашелся человек, который сделал это очень просто. Этим человеком оказался всеми уважаемый солидный товарищ, с большим авторитетом и большим животом (что практически одно и то же), главный инженер совхоза и по совместительству мой родной дядя Отто, которого и я уважал и, может быть, даже любил. Он молча (он вообще был патологически молчаливым человеком, что уже чрезмерно переполняло чашу его достоинств) взял меня за ухо (мне когда-то уже закручивали уши – не понимаю, чем они так привлекательны?) и, не обращая внимания на мои зачесанные назад по-взрослому волосы, вывел из бильярдной на виду у почтенной публики. Так впервые я потерпел сокрушительное поражение в этой непростой, неравной игре в бильярд.
В этой связи примечателен еще один эпизод с теми же действующими лицами. Как-то летом, это было в младших классах, дядя Отто, столкнувшись со мной во дворе нашего общего с ним дома, удивительно ловко схватил меня за ноги, проделал со мной молниеносный кульбит, так что я оказался вниз головой, энергично потряс меня, как на вибростенде, и из меня посыпались папиросы…
Вообще мой любимый дядя (говорю это без иронии) был настолько неординарным субъектом, что заслуживает отдельного разговора. Не знаю, доведется ли, поэтому – пока вскользь и бегом. Он буквально из ничего, из каких-то заброшенных железок сконструировал: три или четыре автомобиля, аэросани и, вместе с отставным военным летчиком Б. Евгением Михайловичем, самолет. Летательный аппарат тяжелее воздуха (так по-научному мы, студенты авиационного института, трактовали самолет) был готов к полетам и с нетерпением дожидался весны в сарае-ангаре. Но понюхать небо аппарату не довелось, так как дорогу в заоблачные выси загородили ему аэросани, едва заметным при работе винтом которых зарубило человека. Было следствие, в результате которого аэросани и самолет конфисковали.
Начало занятий в 5-м классе совпало с переездом в новый дом, который спроектировал и построил папа. Кое-что придется пояснить. Дело в том, что папа, будучи учителем, закончил заочно строительный техникум и получил квалификацию прораба и возможность занять чем-то отпускное время. Праздного времяпрепровождения в доме отдыха отец не любил. Как оказалось, папа вовремя обзавелся этой новой профессией. По сути, он совершил революцию в сельском строительстве.
Я уже говорил, что все постройки в Волгодоновке, и частные, и колхозные, были глинобитные, с плоскими мазаными крышами. Это не от хорошей жизни – это от бедности. На освоение целины были выделены приличные средства, направлены значительные технические (тракторы, комбайны, автомобили и пр.) и людские ресурсы. Колхозы быстро богатели. Поэтому в 56 – 57 годах на целине началась новая эпоха и в строительстве. Дома стали строить по совершенно другой технологии. Фундамент и стены заливали смесью, в основе которой был дешевый материал – шлак, продукт сгорания угля в топках паровозов; его на ж/д станциях накапливались горы. К шлаку добавляли цемент, песок, известь, и получался прочный раствор. Строения так и назывались – шлакобетонные.
Сначала папа построил коровник, потом сельский клуб. Получился настоящий дворец с колоннами. До этого кино крутили в каком-то сарае. В этом замечательном дворце, кроме кинозала со сценой (здесь проходили и концерты, и театральные постановки, и всякого рода собрания), было большое фойе, в котором днем проходили уроки физкультуры (шведская стенка, гимнастические брусья, кольца и канаты находились здесь постоянно, а прочие спортивные снаряды: конь, козел, бум, маты хранились в складском помещении), а вечером устраивались танцы. В новом клубе располагались также бильярдная комната, библиотека, рубка киномеханика (папа часто гонял фильмы вместо штатного киномеханика – любил это дело) и еще какие-то помещения.
После клуба папа занялся строительством собственного дома, в созидании которого и я принимал активное участие: помогал размечать планировку на земле, копать канавы под фундамент и даже делать раствор для заливки фундамента и стен. Дом рос не по дням, а по часам. Когда я вернулся из лагеря, строители начали возводить крышу: ставить стропила и крыть шифером… К началу учебного года дом был готов. Что значит переселиться из небольшой землянки в огромный светлый дом?! Это – как с велосипеда пересесть на "Мерседес" или "Тойоту".
А я как раз в это время пересел с велосипеда на мотоцикл. Это целая эпопея. Сначала я научился кататься на мотоцикле дяди Роберта, на котором уже вовсю гонял мой двоюродный брат Яша. Это был маленький одноцилиндровый мотоцикл марки "Москвич" с низко расположенным сиденьем. С этого сиденья мы доставали до земли обеими ногами практически полностью. А мотоцикл моего отца марки "К-55" был хоть и той же категории одноцилиндровых, но значительно тяжелее и, главный минус, имел высокое сиденье. Чтобы тронуться с места на этом мотоцикле, нужно было сильно съехать с сиденья набок вправо, так что на сиденье оказывалось бедро левой ноги; затем включить скорость левой ногой и, потихоньку отпуская муфту, успеть в нужный момент прыгнуть в седло. Это не совсем простая эквилибристика. Папа все это прекрасно понимал и на все мои просьбы и аргументы отвечал решительным "нет". Впрочем, их (просьб) было не больше двух: папа не любил торги.
Тогда я все психологически просчитал и выбрал момент, когда на стройке нашего дома было много народу, да еще попросил Яшку подъехать на своем мотоцикле, чтобы продемонстрировать, какой я классный водитель. Короче, я, что называется, припер отца к стенке. И папа, хоть и ненавидел торги и тем более шантаж, будучи не в состоянии выбраться из психологического коллапса, куда я его загнал запрещенными приемами, да еще под давлением общественного мнения, вынужден был уступить. Я тоже понимал все трудности старта на этом мотоцикле, поэтому несколько раз проимитировал необходимую процедуру на холодной машине. Понимал я также и то, что никто не будет поддерживать мне штаны, коль скоро я – "классный водитель". Имитация имитацией, но необъезженный конь есть необъезженный конь. Как только я отпустил муфту (слишком резко), мотоцикл буквально рванул из-под меня, так что я чудом лихорадочно успел оттолкнуться от земли правой ногой и взгромоздиться на сиденье. Но это еще полбеды. Пока я справлялся с первой проблемой, правая рука забыла о синхронизации ручки "газа", вследствие чего мотоцикл получил дополнительный импульс и рывком увеличил скорость. Я ощущал машину как беспощадного, враждебного мне зверя. До сих пор не могу понять, как мне удалось при таком изобилии неправильных действий укротить это строптивое чудовище. Потом всё пошло как по маслу, и папа уже никогда не отказывал мне: ну раз я прошел такое нешуточное испытание.
Вернемся к строительству. После того как были построены клуб и наш дом, строения стали расти, как грибы. Строились общежитие, детский садик, дома для молодоженов и перестраивались (а чаще всего строились заново) мазанки аборигенов. Проектную и сметную документацию делал папа, и он же осуществлял руководство строительством. За строительство для колхоза папа, наверно, получал какие-то деньги, а вот для односельчан строил бесплатно. Он говорил: “Я не могу брать деньги за удовольствие”.
Отец в совершенстве владел всеми строительными профессиями: каменная! и кирпичная кладка, кладка печей, плотницкие, столярные и слесарные работы, работы с металлическим листом и прочее. Особенно любил работать с деревом, в частности, с буком. Вся мебель в доме была изготовлена его руками: шкафы, буфеты, этажерки, столы, табуретки. Делал мебель и односельчанам, но только бесплатно и лучше, чем для себя. Кое-что (плотницкое и столярное дело, кирпичную кладку и пр.) и я перенял от него, и, конечно, в жизни мне это ох как пригодилось.
Столярному делу папа учил и учеников. На уроках труда мы делали ручки для молотков, топоров, стамесок, табуретки, школьные скамейки, рубанки, фуганки, продольные пилы, лыжи, ремонтировали школьную мебель. Делали и эксклюзивные вещи, например, разборные одно- и двухэтажные дома в уменьшенном масштабе; с застекленными окнами, с межкомнатными перегородками, с открывающимися дверьми, с электрическим освещением. Это были впечатляющие изделия. Как-то раз повезли эти красивые домики на районный смотр-конкурс, и их, конечно же, "конфисковали" – было очень жалко.
Оглядываясь назад, я вижу и понимаю, что папа мой был большим ребенком и большим романтиком, несмотря на свою кажущуюся внешнюю строгость. Может, он поневоле свыкся с этим державным образом, как-никак он был бессменным завучем, и на нем держалось все школьное хозяйство? Скорее всего – нет. Ведь папа по природе своей был очень спокойным, естественным, органичным человеком; в нем ни на гран не было фальши, искусственности, театральности.
Это в жизни. А на сцене папа преображался, мог вжиться в любую роль, воплотиться в любого персонажа. Кроме того, он был режиссером спектаклей (у нас говорили – постановок), в которых участвовали не только школьники, но и сельчане и которые мы регулярно ставили на клубной сцене. Тематика спектаклей была самая разнообразная, но обязательно злободневная, юмористическая и потому интересная: пьесы из колхозной жизни, из украинского фольклора, иногда пьесы маминого сочинения и даже американских авторов, отражающих негритянскую дискриминацию. В одной из таких мне досталась роль негритянского мальчика Джона, а папа играл главную роль отца Джона. Успех, как говорится, был потрясающий, хотя в нашей сценарной борьбе за права негров мы на колени не становились.
Папа был спортивен, строен, всегда подтянут. И строгость, конечно, тоже была, но прежде всего – внутренняя, естественная, сродни смирению. Я теперь точно знаю и чувствую, что папа по сути своей был настоящим христианином с чистым и ясным умом, не способным и не идущим ни на какие соглашательства и ни на какие сделки с совестью. Так, он не вступил в партию, хотя все учителя (кроме мамы) были партийными. Он долго не соглашался формально стать христианином, т. е. креститься, пока досконально не разобрался и, главное, сердцем не принял все христианские догмы и постулаты. Наконец, он не хаял огульно Сталина, когда это было повсеместно принято. Ему импонировали такие его личные и общественные качества, как твердость и решительность, борьба с воровством и коррупцией, порядок и дисциплина, аскетический (хотя бы только внешне) образ жизни и пр. И напротив, ругал Брежнева за противоположные свойства и, кроме того, попустительство и бесхозяйственность, приведшие в итоге к краху системы и развалу страны.
А ведь папа пострадал от сталинских репрессий не меньше других. Известно, что власти, как только очухались после начала войны, депортировали немцев в Сибирь и Среднюю Азию, причем женщин и детей на спецпоселение в названные районы, а мужчин и юношей – в так называемую трудармию (читай – концлагерь) на уральские рудники. Депортации не избежали и другие народности Советского Союза (крымские татары, чеченцы, ингуши и др.), но такому иезуитскому наказанию подверглись только немцы. Причем всех спецпоселенцев после смерти Сталина вернули на их прежние места жительств, а немцев – нет. Содержали их в этих трудармиях хуже, чем военнопленных, никаких прав они не имели. В трудармии папа заболел туберкулезом, и его, еще живого, бросили в морг. Отца случайно спас врач-немец: обнаружил его при больничном обходе. Он отпоил его барсучьим жиром и буквально вытащил с того света.
После выздоровления, как оказалось, не окончательного, папу комиссовали по причине профнепригодности (мама говорит, что он был, как доходяга: кожа да кости), и он вернулся к родным. Его взяли в Вишневскую среднюю школу, т. к. катастрофически не хватало учителей немецкого языка. До папы немецкий, наряду с русским и литературой, преподавала мама, не знавшая ни слова по-немецки. Физически папа восстановился благодаря природному здоровью и наработанной в студенческие годы спортивной форме: имел первый разряд по легкой атлетике. Кроме того, он занимался парашютным спортом, мечтал стать летчиком и даже подал документы в летное училище накануне войны. Но вместо летного училища загремел на рудники. Самое удивительное то, что папа никогда не сетовал и не отзывался негативно об этом тяжелом периоде своей жизни.
От туберкулеза полностью он так и не избавился и, сколько я помню, принимал желтые таблетки (кажется, фтивазид). И у меня в детстве обнаружили пятна на легких, и я принимал желтые таблетки. Но у меня с возрастом это прошло, а у папы нет. Одно легкое у него постепенно угасало, что, вероятно, и явилось причиной обширного инфаркта в 1991 году. О том, что одно легкое не работает, папа узнал только в Германии, куда они с мамой переселились в конце 1994 года. Немецкие врачи удивлялись, как он смог дожить на одном легком до такого возраста (72 года)? Тем не менее они продержали его в течение девяти лет в сносном состоянии: каждый год клали на профилактику, выкачивали жидкость из легких и пр.
Но и в период эмиграции ему часто было очень тяжело. Одно время, года два или три, он практически был прикован к постели, надрывно кашлял, отхаркивал накапливающуюся в легких слизь в стоящее рядом ведерко и смиренно ждал смерти. Он мне об этом так прямо и говорил, когда я навещал их с мамой в Германии. И ни единого стона, ни единой жалобы. Иногда папа, превозмогая боль, вставал и шел вместе со мной, с остановками на отдых, в больничный сад, где мы собирали отборные зимние яблоки. Это он для меня старался, чтобы я мог взять их с собой в Чебоксары. Бог отблагодарил папу за смирение, терпение, стойкость. В последние годы жизни он как-то неожиданно для всех преодолел все недуги и болячки, встал на ноги и даже завел кроликов, смастерил клетки для них и ухаживал за этими беспокойными, пугливыми, красноглазыми зверьками.
Подводя итог пройденному папой жизненному пути, я спрашиваю себя, что же было главное в нем? Честность, смирение и естественность. И это было источником его спокойствия, уравновешенности, оптимизма, позитивного настроения и внутренней свободы. Несмотря на кажущуюся строгость, в душе его всегда жила улыбка, выбирающаяся иногда наружу и обнаруживающая себя в уголках губ и в каком-то теплом, заговорщицком прищуре глаз. Внутренне он всегда оставался ребенком. Эти качества в полной мере проявились у него в общении с внуками.
Со мной папа использовал более жесткую модель воспитания. Между нами существовала какая-то невидимая грань, какой-то необязательный интервал. Мы оба не пытались преодолеть эту дистанцию. Я – потому что она мне не мешала и ни в чем не ущемляла. Я знал, что папа любит меня, гордится мной, и что я всегда под его сильным и надежным крылом. Он – вероятно, потому, что такова традиционная модель воспитания в немецкой семье. Кстати, казаки придерживались той же методики воспитания. И, доложу я вам, методика эта – далеко не самая худшая, по крайней мере, лучше сюсюканья и излишней опеки, что сейчас повсеместно культивируется в современных семьях.
Я называл папу на "вы", а маму на "ты". Мама вообще позволяла обращаться с ней, как с равной, и я, не обладая еще ни мозгами, ни элементами этики, будучи не в состоянии преодолеть гравитацию, стоя на наклонной плоскости, позволял себе иногда недопустимо грубое отношение к самому близкому человеку. Папа, если оказывался свидетелем такого, мягко говоря, безобразия, крайне недовольно сдвигал брови – и этого было достаточно. Именно он сформировал в моем сознании почтенное и трепетное отношение к слабой половине человечества. Когда я вышел в люди, т. е. покинул отчий дом для продолжения образования, мама стала моим единственным товарищем и корреспондентом, которому можно и нужно было доверить самые сокровенные мысли и чувства, блуждающие в тайниках неокрепшей души.
Однако вернемся к папе, к его служебной ипостаси. Менялись директора школы, а он оставался на своем посту завуча. Скипетром власти, внешним атрибутом ее служила огромная связка ключей, с которыми связана масса историй, ставших, что называется, притчей во языцех. Вот, например, одна из них. Сидим мы на уроке немецкого погруженные в только что выданное задание. Папа сидит за столом, тоже во что-то погруженный. Тишина гробовая. И вдруг, как гром среди ясного неба, – перезвончатый удар. Вздрогнув от неожиданности, видим: в углу возле книжного шкафа, далеко за папиной спиной, – связка ключей и рядом убитая мышь. Папа выстрелил, как из катапульты, даже не шелохнувшись. Вот что значит "Ворошиловский стрелок". Да, эта знаменитая связка ключей, этот уникальный музыкальный инструмент… Она имела свой голос, свой характер, свой настрой, хорошо перенимала эмоциональное состояние своего хозяина и транслировала малейшие нюансы, все оттенки этого состояния ученикам.
Папа вообще был очень музыкальным человеком. Будучи студентом Запорожского педучилища, он играл в оркестре на трубе – высший пилотаж! Я видел у папы фотографию, где он – с оркестром и со своей трубой. Сколько я помню, папа всегда что-то напевал.
А вот у меня со слухом было неважно. Несколько лет под папиным началом работала бригада сезонных строителей. Среди них был гармонист (кажется, его звали Виктор) – молодой веселый парень с кудрявым чубом и со шрамом во всю щеку. Он жил в общежитии, но часто в свободное от работы время пропадал у нас вместе с гармошкой. По вечерам играл в клубе на танцах. И как играл! – заслушаешься. Особенно завораживающе звучали вальсы. "И, как утешенье, – старинные вальсы, что страх укрощают в душе" (Г. Горбовский). Я как-то набрался смелости и попросил его научить меня хотя бы одному вальсу. А он и говорит: "Бери и подбирай на слух. Меня никто не учил, я сам подбираю на слух". И оставил мне гармошку. Воодушевленный такой оптимистической преамбулой, я схватился за таинственный инструмент и стал подбирать то ли "Амурские волны", то ли "На сопках Манчжурии". Тык-мык – не звучит. После долгого мучения вырулил-таки на вожделенную мелодию и, счастливый по уши, взахлеб наяриваю. С нетерпением жду Виктора – похвастаться. Приходит судия, прослушивает и выносит приговор: "Ты ж неправильно играешь! Ты что, не слышишь?!" В итоге он несколько раз показал, как надо. Я кое-как запомнил, выучил и приступил к следующему вальсу. С ним повторилась та же история. Задача оказалось трудной, но желание было столь велико, а правильно звучащая музыка столь красивой и волнующей, что я, несмотря на отсутствие слуха, не отчаялся и не бросил это нелегкое дело.
Мое упорство (или упрямство) было вознаграждено: через год, когда я поступил в 8-й класс Вишневской средней школы, папа купил мне баян, и я стал заниматься в кружке баянистов при Доме пионеров. Учитель музыки, З. Василий Иванович, остался в памяти как добрый, спокойный, терпеливый человек, ни разу не повысивший голос.
А еще через два года в Караганде музыкально образовывать меня продолжил преподаватель Карагандинского музучилища. Будучи баянистом-виртуозом, он готовил меня на второй курс этого училища. И хотя мне не суждено было вступить в означенный музыкальный храм, вся моя сознательная жизнь по сию пору связана с этим волшебным видом искусства, правда, несколько иного свойства.
Но цель моего паломничества в славный город шахтеров была совершенно иная: я решил осуществить папину мечту стать летчиком. В Караганде был неплохой аэроклуб, который к тому же был поставщиком курсантов в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков-истребителей. Но это совсем другая история, и о ней еще будет время поговорить.
Однако мы увлеклись и пора вернуться к папиным романтическим делам. Как-то с учениками он построил сначала катамаран, потом довольно большую дюралевую лодку и ходил на них в многодневные походы по реке Ишим: забрасывались на грузовике вверх по течению и затем сплавлялись. К сожалению, это было без меня, я тогда уже был студентом и летом то пропадал на аэродроме, то сплавлял плоты по Каме. Но суда я видел и очень впечатлился ими. Так что папа стал водным туристом значительно раньше меня.
1 сентября 1959 года (мой 6-й класс) на торжественной линейке я заметил в 5-м классе незнакомую симпатичную девчонку. Звали ее Светлана Л. У Светланы, как и у меня, отец – немец, мама – русская, и родители ее также были учителями, но – в Михайловской семилетней школе, откуда и явилась Светлана. Для меня до сих пор остается загадкой, почему родители сослали дочь свою к нам, в Волгодоновку. Ведь село Михайловка было больше нашего по размерам, по числу жителей и значительнее, солиднее по содержанию. Там, например, располагалась машинотракторная станция (МТС), где был сосредоточен весь технический парк района и откуда по разнарядке техника ежедневно направлялась в колхозы и совхозы района. Разумеется, это было неудобно, и вскоре МТСы упразднили.
Кроме технических преимуществ, Михайловка имела и географические: располагалась значительно ближе к райцентру и, следовательно, значительно сильнее ощущала дыхание культуры и цивилизации. Было и еще одно преимущество, подозреваю, что оно и явилось причиной Светиной ссылки, но об этом в свое время. Как бы там ни было, но эта симпатичная, оригинальная, не похожая ни на кого девочка прибыла именно к нам, пополнила ряды именно нашей школы. Нет нужды говорить, что я влюбился с первого взгляда. Жила она у своей тети, маминой сестры.
…И началась у нас в школе совсем другая жизнь. Светлана оказалась интересной, бойкой девчонкой, с ярко выраженными лидерскими качествами. Она вполне могла сойти за мальчишку, если бы не была столь привлекательной. Надо сказать, что Светлана попала в выдающийся класс, где было немало интересных, симпатичных девчат: были и задорные, и заводные, и задумчивые, и начитанные. Но в Светлане было еще что-то такое, что трудно выразить словами. К ней, как к магниту, потянулись многие. Мы чуть ли не каждый вечер собирались в школе, готовили номера художественной самодеятельности, играли в разные игры, которые Светлана то ли сама придумывала, то ли доставала из своей волшебной шкатулки, и, главное, разучивали и распевали привезенные ею блатные песни, дотоле невиданные и неслыханные. В них открывался совершенно неведомый романтический мир, воспевались доблесть и честь, звучал мотив любви и свободы, гулял ветер дальних странствий, звенели шпаги и ножи, пенилось пиво и лилась кровь, свершалось справедливое возмездие. Это были особые песни, простые и искренние, которых жаждала уставшая от чрезмерной серьезности и истосковавшаяся по чему-то чистому, высокому и героическому душа и которые были, есть и будут у всех народов и во все времена. Не случайно они имеют такой широкий географический охват и такое разнообразие бередящих душу сюжетов. Тут и японка, не устающая ждать русского капитана, и драка французских и английских моряков, и душераздирающая история с испанцем Джоном Грэем, носившим почему-то англицкое имя? Но в таком жанре, очевидно, всё возможно. И на Руси они всегда пелись, да мы до поры их не слышали и не знали.



