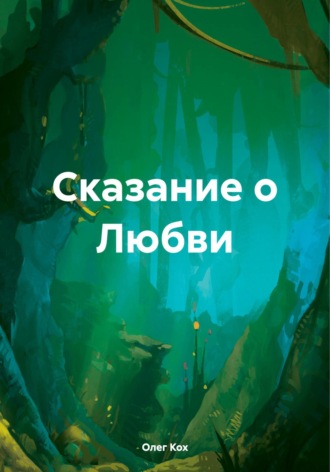
Полная версия
Сказание о Любви
Летом постоянным поставщиком работ была бабушка Кохша, и – моя главная задача: не попадаться ей на глаза и вовремя смыться на речку. Да, летом житье-бытье наше мальчишеское протекало на красивой реке с не менее красивым названием – Ишим. Река небольшая, чистая, разнохарактерная и по глубине, и по скорости течения, с бурунами и с водоворотами на виражах, с песчаным и галечным дном. Правый берег крутой, местами скалистый, левый пологий, песчаный. Песок серый, крупнозернистый. Много рыбы – щуки, окуни, язи, лини, налимы, плотва разных калибров – и особенно раков: за час – ведро. В старицах рыбы еще больше. В озерах – уйма карасей. Но караси как-то не очень ценились, может быть, из-за обилия костей и потому, что их было некуда девать. Впрочем, мы с мамой любили и жареного карася, и уху карасевую. Папа же предпочитал щук. Поедет вечерком на мотоцикле со спиннингом и штук шесть-семь доставит к ужину. Ну кто ж откажется от нежного, без костей, белого щучьего мяса. Позже, в 60-е годы, в некоторых озерах стали разводить карпов, морских окуней.
Итак, летом мы, как гуси и утки, с утра до ночи пропадали на речке – весь день под палящим казахстанским солнцем. Черные, как негры (прошу прощения, как афроамериканцы), ступни ног, как подошва у сапог, форма одежды – трусы. Купаемся до посинения: игры в догонялки на воде и под водой, как в прятки, – попробуй найди в замутненной воде. Потом плюхаемся в раскаленный песок, травим байки, иногда курим, если есть что, затем опять в воду. И так весь день, и ведь не надоедало. О еде даже не вспоминали. В крайнем случае, прибежишь домой, проберешься, как вор, в кладовку, найдешь большой кусок сахару, прососешь через него студеную воду из ведра – ничего вкуснее нет на свете! Иногда, если подвернется, выпьешь кружку молока или достанешь в сеннике в потайных местах теплые еще яйца, проглотишь сырыми пару штук – и обратно на речку. Главное, не попасть под прицел бабушки – обязательно найдет работу.
Село Волгодоновка в две улицы вытянулось вдоль левого берега реки Ишим. И это было большим везением. На остальном близлежащем пространстве царила безводная степь с небольшими пологими сопками – казахский мелкосопочник. Правда, попадались небольшие озерца, густо населенные карасем. Между улицами располагались большие людские (в наших краях – синоним слову "частные") картофельные поля. За речкой, вдоль правого берега, в несколько гряд или каскадов шли большие скальные сопки, казавшиеся нам настоящими горами. Некоторые скалы отвесной стеной падали в глубокие старицы. Старики говорили, что в одну из стариц с высокой скалы прыгнул вместе с конем убегавший от белых красный командир; а может, наоборот. Летом в углублениях скал мы устраивали хорошо замаскированные военные штабы. Зимой после уроков ходили на эти сопки кататься на лыжах.
Летом мы, пацаны, были в состоянии войны. Воевали не улица на улицу, а край на край. Война была позиционной, мирной, т. е. мы не появлялись на их территории, они – на нашей; дрались редко. Граница проходила и по речке. На своей территории чувствовали себя спокойно и уверенно. Главнокомандующим нашего войска был Иван Г., из семьи сосланных бандеровцев.
Я тогда даже не задумывался, кто такие бандеровцы и откуда они взялись. В нашем сельском житье-бытье не было никаких различий, никаких противоречий: ни этнических, ни сословных. Люди ценились по их качествам, трудовым и человеческим. Кроме Ивановой бандеровской семьи, в Волгодоновке жили также две сосланные ингушские семьи (впрочем, одна, кажется, была чеченская). Казахов было две или три семьи, как правило, служащие: в школе, в конторе. Казахи компактно жили недалеко за рекой в ауле. Им было так удобнее хотя бы потому, что им разрешали держать лошадей на мясо; и овец у них было гораздо больше. По-русски казахи говорили свободно, без акцента, это отличало их от других среднеазиатских народностей СССР.
Представители сосланных семей были очень достойные, добрые люди, культурные и гостеприимные. Мне приходилось бывать в этих семьях, особенно у Ивана Г. и в ингушской семье, где меня всегда угощали козьим молоком и сыром. Ингуши и чеченцы вернулись на родину в 56-м или в 57-м году, а Иван с родителями позже, он успел окончить нашу семилетку. Однако вернемся к нашим военным делам.
Итак, нашим командиром был Иван Г. Симпатичный, смуглолицый, сильный, жилистый, хорошо сложенный парень, с заметными следами интеллекта на лице, не лишенный обаяния и с ощутимыми лидерскими задатками. На другом краю заправляли братья М.: старший – Николай, со средним, Володей, мы учились в одном классе, а младшего – забыл, как звали. Из всех родов войск мы признавали только кавалерию. Боевыми конями нам служили толстые ивовые прутья с пушистыми лиственными хвостами. Плетки плели сами из ивовой же коры. Оружие тоже делали сами: вырезали из досок пистолеты и автоматы. В арсенале было и настоящее боевое – так называемые самопалы, которые гнули из медных трубок и начиняли серой от спичечных головок; бойком служил изогнутый гвоздь, приводимый в действие резинкой. Война, как я уже говорил, носила позиционный характер: мы на своем краю держали позиции, противник – на своем.
В школьное время автоматически наступало перемирие, и, как по мановению волшебной палочки, – никаких антипатий и противоречий, никакого противостояния. Впрочем, и летом были исключения. В первую очередь это был ежевечерний поход за коровами. Тут противостояние также по какому-то волшебству исчезало. Может быть, потому, что в воинственное племя пацанов вливался живой, волнующий ручеек девчонок. Сельское стадо встречали на краю села, на вражеском, кстати, краю. Это было ожидаемое, предвкушаемое событие, так как оно сулило не просто встречу с представительницами прекрасного пола, но и, главное, со своей “невестой”. Здесь грубые, суровые воины обоих лагерей забывали о вражде и превращались в галантных кавалеров. Играли в "ручеек" либо в разные игры с мячом: выбивалки, например. Больше мы летом, как правило, с девчатами не пересекались. Не могу сказать, почему: ведь взаимное влечение друг к другу мы все же испытывали. Стеснялись, наверно, или так было принято?.. Даже на речке купальные места были раздельные: у пацанов – свои, у девчат – свои.
Начало осени было обычно сухим, солнечным и безветренным и совпадало для нас, школьников, с благодатной порой уборки огородных и бахчевых культур. На любой подвиг были готовы, лишь бы не учиться. Но и после уборки урожая осень, не в пример средней полосе России, долго еще оставалась сухой и солнечной. И никому в голову не приходило эту длинную теплую осеннюю пору называть неблагозвучным именем "бабье лето". Однако положенную для этих мест норму осадков небеса все же аккуратно выделяли нам, и ненастная эта пора, как ей и написано на роду, и у нас была грязной, холодной, занудной и тоскливой.
Осень! Летит по дорогам
Осени стужа и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропою
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идет с водопоя,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик, знобящий и серый,
Всё моросит, моросит…
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены –
Чистой, веселой зимы!
(Н. Рубцов)
И терпение наше было вознаграждено: зима наступала враз, без предупреждений и предисловий – снежная и морозная, строгая и серьезная, не собирающаяся уступать позиций раз и навсегда ушедшей осени, занудным оттепелям и прочим, как в средней полосе, тягомотинам.
Выпал снег – и всё забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.
Вдоль по улице, по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.
Снег летит – гляди и слушай!
Так вот просто и хитро
Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И добро.
(Н. Рубцов)
Зимой самым приятным занятием были походы на лыжах на сопки за рекой. Сопки шли вдоль речки в несколько гряд и были для нас настоящими горами. Ближняя к реке гряда называлась "ближние сопки", а дальняя, соответственно, – "дальние сопки". Обычно мы катались на ближних. Устраивали скоростные спуски с крутых – не каждый мог съехать – скальных сопок и даже с элементами слалома: расставим ворота из лыжных палок и выписываем виражи на большой скорости. Поход на дальние сопки занимал почти весь день, туда ходили обычно в воскресенье. Покатаемся с часок и возвращаемся в густых сумерках, испытывая двойственное состояние: и боимся волков, и хотим с ними встретиться. Но нам ни разу не повезло, только иногда слышали их лирическое завывание, а может, нам это только казалось.
Другим, не менее приятным занятием была игра в хоккей. Это был необычный, "пешеходный" хоккей без коньков. На речке устанавливали ворота из подручных предметов, вырубали клюшки из талы, а шайбой служил кусок замерзшего конского навоза. А лед у нас на Ишиме – как зеркало, гладкий и прозрачный: видны камешки насквозь и, как в зимнем аквариуме, резвящиеся рыбёшки.
В сильные морозы или бураны, когда занятия в школе отменяли, строили снежные крепости с бойницами, блиндажами и туннелями, которые вырывали в сугробах, и играли в войну. Сугробы в селе были выше крыш, так что было где разгуляться и достойно применить свои архитектурные таланты.
Но были такие сильные многодневные бураны, что носа из дома не высунешь. В один из таких буранов мне надоело сидеть в четырех стенах, и я решил испытать себя: мне не верилось, что в родном селе можно заблудиться. Я с трудом выполз за дверь и решил сначала совершить экскурсию к туалетной будке, которой зимой никто не пользовался, а затем расширить географию буранных путешествий. Обычно, чтобы охарактеризовать интенсивность бурана, говорят: в двух шагах ничего не видать. Для казахстанских буранов такая характеристика не годится. Бураны в Казахстане – это сплошные вихревые потоки, такие, что нет возможности не то что в двух шагах что-то рассмотреть, а и просто открыть глаза. Поэтому тактика перемещения в таких условиях только одна: опустить голову, накрыв её большим воротником полушубка так, чтобы видеть свои собственные ноги (что тоже не просто), и начать перемещение по выбранному курсу. Я так и сделал: взял курс на туалет, который находился метрах в десяти-пятнадцати, и точно вышел на него. А обратно – заблудился. Я плутал не меньше получаса, постоянно меняя направление, – вихревой ветер буквально сбивал с ног – и наконец уткнулся в дом, находящийся через два от нашего. С большим трудом я добрался до своего жилища.
Зимой мы, ученики, в качестве шефской помощи, ухаживали за телятами и жеребятами. Предпочтение, конечно, отдавалось жеребятам. Эти маленькие, красивые и умные животные просто пленяли наши сердца. Мы прикипали к ним, а они привыкали к нам и становились ручными. Как приятно было кормить их из рук, ощущая влажные губы и теплое дыхание. Мы всегда припасали для своих питомцев что-нибудь вкусненькое: пряники, сахар или хлеб, пропитанный молоком. Конечно же, ездили верхом, чаще всего – без седла.
Памятен такой случай. Как-то ранней весной я вскочил на молодого жеребца и поскакал за лошадьми, которых после зимы первый раз выпустили на променад. И вот когда я гнал лошадей обратно, мой жеребец взыграл, понесся за кобылицей крупным галопом и стал неуправляем. Я сначала кое-как держался на крупе, стараясь совершать синхронные с галопом колебания, но, как говорится, третий лишний, и мой четвероногий друг решил от меня избавиться, что и осуществил, весьма виртуозно взбрыкнув, когда мы уже спускались с сопки в село. Я перелетел через голову своего друга, но, к счастью, пока совершал кульбит, он успел из-под меня ускользнуть, и я приземлился в твердый, но все-таки снег. Я, как мяч, подпрыгнул, встал на ноги и пошел как ни в чем не бывало. Да и об ушибах ли было думать, когда тебя заполнило совсем другое чувство – чувство стыда, что не смог удержаться на коне.
Летом дежурной обязанностью был сбор кизяка в степи, где паслось стадо коров. Этим кизяком летом топили печь для приготовления еды. Один раз за лето заготавливали талу на всю зиму для растопки печи. Для этого мероприятия папа брал в колхозе пару быков, запрягал их в арбу, и мы втроем, папа, мама и я, уезжали на весь день за три-пять километров на берег Ишима. Это была трудная и, признаюсь, для меня самая противная работа. Папа рубил, а мы с мамой таскали талу к арбе, пробиваясь сквозь полчища слепней и комаров. Возвращались домой поздно вечером к вечерней дойке.
Из приятных поручений можно назвать походы за черемухой, которая поспевала во второй половине июля, и за паслёном и шиповником в сентябре. Эти растения заменяли нам и ягоды, и фрукты, и мы с удовольствием уплетали их за обе щеки. С черемухой и пасленом варили вареники, шиповник сушили и заваривали чай. Ягод и фруктов не было в нашем детстве не потому, что они не могли произрастать в наших краях, а, вероятно, потому, что колхозникам было не до них. Зато всегда в колхозе выращивали подсолнух, и мы, пацаны, ездили на созревшие подсолнуховые поля на велосипедах воровать семечки. Позже, в 60-х годах, в личных хозяйствах стали выращивать и фрукты (яблоки, вишни), и тем более ягоды (малину, смородину и пр.), а на колхозных бахчах – арбузы и дыни, которые не воровать было никак нельзя.
Конечно, рыбачили; ловили на удочку в основном мелочь, которой кормили домашнюю птицу и котов; из окуней мама варила уху. Иногда на удочку попадалась щука и неизбежно оказывалась на сковородке.
Три страды испокон веков были на селе главной заботой и головной болью: посевная, заготовка сена и уборка урожая. На посевной нас, школьников, не задействовали. Сено для колхозного и личного скота заготавливалось централизованно (на моей памяти вручную не косили). Но если колхозникам правление колхоза выписывало сено по количеству трудодней (мера труда в колхозе), то учителям, которые членами колхоза не являлись, нужно было отработать на сенокосе определенное количество дней. В нашей семье трудодни зарабатывал папа: он либо возил сено (нагружал в кузов автомобиля), либо скирдовал, то есть формировал скирды для зимнего хранения. С третьего, кажется, класса я помогал папе: утаптывал сено на скирдах. Иногда папа брал в колхозе арбу, запряженную парой быков, и мы отправлялись на небольшие озера (где не могла пройти техника) и выкашивали высокую сочную траву вокруг них. Папа косил ручной косой, а мы с мамой сгребали сено граблями.
Посевные культуры: пшеницу, овес, ячмень убирали в колхозе комбайнами и в нашей помощи не нуждались. А вот в уборке колхозных овощей без школьников обойтись было никак нельзя. Для выполнения этой стратегической задачи вся школа со второго по седьмой класс вставала единым фронтом. Собирали все подряд: помидоры, огурцы, капусту, морковку, свеклу, лук и, конечно, картошку с необозримых площадей. Но больше всего мы любили собирать арбузы и дыни.
О праздниках. Не могу сказать, чтобы официальным праздникам (7 Ноября, 1 Мая) в нашей школе придавалась идеологическая окраска, так же, как и пионерскому движению (комсомольской организации в нашей семилетней школе не было – не подходили по возрасту). Пионерскую организацию и свое членство в ней мы воспринимали, с одной стороны, как занимательную игру, с другой, – очень серьезно и ответственно и свою роль понимали как созидательную: ухаживали за телятами и жеребятами, помогали убирать урожай в колхозе и пр.
Главным праздником был Новый год. Сначала "ёлкой" служил большой цветок "фикус", позже – сосна, которую откуда-то привозили. Игрушки были красивые и разнообразные: здесь и звери, и домашние животные, и звездочки, бусы и снежинки, и Дед Мороз со Снегурочкой в разных исполнениях, и сказочные избушки и пр. и пр. Подарки, кроме конфет и пряников, содержали апельсины, а иногда и грецкие орехи. В клубе проходили концерты художественной самодеятельности, подготовленные учениками, учителями и сельчанами. Рано утром 1 января приходили ряженые с гармошкой и песнями и "посевали", то есть рассыпали по комнатам зерно. Ходили "посевать" и мы, дети.
Значение праздника "Пасха" не понимали, но праздновали с удовольствием: красили яйца, пекли куличи, которые почему-то называли "пасха". Красивый праздник. Мы, дети, ходили по дворам и говорили, как заклинание, волшебные слова, которые воспринимали как абракадабру: "Христос воскрес". За эти два слова нам давали яйца, пряники, конфеты.
В доме дяди Отто Р. по воскресеньям собирались односельчане, которых называли "баптистами". Говорили, что это религиозная секта. Все они были прекрасные люди и хорошие работники, и я не мог понять, как они дошли до такого помешательства. Я их очень жалел. Моя любимая тетя Фрида тоже была верующая, но она ни на какие собрания не ходила и не казалась мне пропащей. У неё в горнице висело несколько красиво оформленных религиозных высказываний на немецком языке, некоторые я до сих пор помню, например: "Der Gott ist mein, und ich bin Sein" (Бог – мой, а я – Его). Конечно, я был атеист до мозга костей, но почему-то не сомневался в правоте тети Фриды, потому что она была – сама правда, и я её очень любил.
Окончание начальной школы (4-го класса) ознаменовалось поездкой в пионерский лагерь, который располагался на берегу Ишима недалеко от Вишневки. Сразу скажу, что мне там очень не понравилось. Жили в большой армейской палатке. Образ жизни был приближен к военному: утренняя побудка, водные процедуры, построение, подъем флага, завтрак – и всё строем и строго по расписанию. Больше всего угнетали дневной сон и свободное время: жара неимоверная, но купаться не разрешали. Во избежание несчастных случаев лагерное начальство перестраховывалось. Это было настоящей пыткой: речка в двух шагах, а купаться нельзя. За всю смену купались два или три раза. Да и такого купания не надо было. На мелководье отгородили небольшой лягушатник, в котором – не поплавать, не понырять. Некоторое удовлетворение лично я получал от прополки колхозных полей – хоть какая-то польза. Произвел впечатление прощальный костер. Больше в лагерь меня не могла затащить никакая сила.
В цепи неприятных событий нужно вспомнить еще два; они были тем более неприятны и обидны, что произошли летом. В разгар летних каникул (после 2-го класса) я заболел корью и целый месяц провалялся в районной больнице. Зимой я этого даже не заметил бы, а может, даже обрадовался. В другое лето на задворках нашего жилища, в густом бурьяне, напоролся на ржавый гвоздь. Должного внимания не обратил, и ногу разнесло в хорошую тыкву. В результате опять угодил в больницу и долгое время лежал, как в кино, с подвязанной выше головы ногой.
Не могу не сказать, хоть и не хочется, об одной значимой перемене, по сути своей формальной, но сильно повлиявшей на мое моральное и психическое состояние. При рождении родители дали мне фамилию матери – "Могилин", отчество записали "Андреевич" (отца в селе многие звали Андреем, даже немцы, когда говорили по-русски), а национальность – "русский", – то есть замаскировали мои немецкие корешки. С этими знаками, с этими фетишами я благополучно существовал до окончания 4-го класса. Надо сказать, что эти русские параметры меня вполне устраивали: хоть немцев в нашем селе никто откровенно не третировал (по крайней мере, фашистами не обзывали), но в воздухе все равно что-то такое носилось, чего даже нам, детям, не заметить было нельзя. Поэтому как-то не хотелось быть немцем.
И вот неожиданно папа вызывает меня на необычный щепетильный разговор – делает это осторожно, деликатно и как бы неуверенно – и предлагает переменить фамилию, отчество и национальность. Несмотря на то, что содержание и тональность папиных слов недвусмысленно предполагали свободный выбор (папа во всем был предельно честен), я почувствовал, что папа этого очень хочет, и не посмел отказать ему. Фетиши, исказившие мое сознание, никакого негативного влияния на мое отношение к отцу не оказали. Напротив, я любил и уважал отца, гордился им.
Для меня перемена эта была потрясением. Другое дело, если бы я сразу был записан немцем, от рождения ассоциировал себя с этой национальностью и привык к своей законной фамилии. И хотя умом я понимал, что так нужно, что это правильно, но совместить себя с новыми параметрами, с новыми фетишами не мог. В моем сознании прочно и надолго поселились комплексы и владели мной так долго и до такой степени, что я детей своих записал на фамилию жены, надеясь при удобном случае и самому взять эту фамилию (я сделал бы это еще при женитьбе, но боялся обидеть отца). Так я и поступил, когда представился формальный повод, а именно: власти отказали мне в доступе к закрытой теме при работе над кандидатской диссертацией. И это в 85 году, в то время как после института я работал в суперзакрытом КБ. Когда я обратился к папе за разрешением, он неожиданно для меня сказал, что это нормально, что ненормально, когда члены семьи носят разные фамилии, и привел мне в пример своего двоюродного брата Федотова Владимира, который взял фамилию жены. Да простит меня Бог и простит меня мой покойный отец. После защиты диссертации я вернул отцовскую фамилию и всю семью переписал на нее. Слава Богу, папа был еще жив. Надеюсь, что от комплексов я избавился и ношу фамилию отца с достоинством.
Как это я до сих пор ни словом не обмолвился о грянувшей на нас эпопее – освоении целины, а ведь она совпала с началом моей школьной жизни. Официально началом этого масштабного исторического события считается 1954 год. Но насколько я помню, этот год в Волгодоновке ничем особенным не отличался от предыдущих, разве только тем, что в этом году я пошел в школу. Но это в личном плане. В общественном же измерении все было как всегда тихо и спокойно, и ничто не предвещало перемен. Бурные перемены начались зимой-весной 55-го. Прибыли молодые ребята шестнадцати-восемнадцати лет, в основном парни-трактористы, но были и девушки-трактористки. Их разместили по семьям местных жителей. И нам повезло: наша семья пополнилась сначала Юрой Калашниковым (совсем молодой мальчишка, сразу после тракторного училища), а через год – двумя девчонками (имен не помню). Кажется, в это время родилась поговорка: "Пополнение в рваный лапоть". Точно подмечено.
Не могу понять, как мы размещались в нашей землянке ввосьмером? Кто-то спал на полу, кто-то на раскладушке. Жили мы дружно и весело. Девчата жили у нас недолго, около года, потом ушли в общежитие, которое построил папа. А Юра прожил у нас до самой свадьбы, которую справил в собственном новом доме. Он стал для нас родным, и сам папу с мамой почитал за родителей. К тому времени выросла новая улица, которую, кажется, назвали: Молодежная. Каждый год прибывало пополнение людей и техники, что вносило живую струю в наше ничем выдающимся не отличающееся существование. Жизнь била ключом: днем гудели трактора, сновали грузовики, строились дома для приезжих целинников и перестраивались глинобитные мазанки коренных жителей, вечером – танцы, игра в бильярд, кино, иногда концерты художественной самодеятельности…
Ах, золотые деньки!
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?
Старые липы в цвету,
К взрослому миру презренье
И на жаровне варенье
В старом саду.
К Богу идут облака;
Лентой холмы огибая,
Тихая и голубая
Плещет Ока.
Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы, –
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.
(М. Цветаева)
Глава 3. Семилетка. Старшие классы
Сопки, степи строгие…
Лыжный, с гор, экстрим.
Детство босоногое
да река Ишим.
Ну вот я и стал взрослым, то есть перешел в 5-й класс. Сразу же отрастил длинные волосы, которые зачесывал назад. Надо ж было как-то подчеркнуть свою взрослость, потому что роста я был все еще небольшого.
Но было и более основательное свидетельство моей взрослости. Правда, было это после 6-го класса, и за два года произошел ряд событий, заслуживающих внимания; но кто нам запретит к ним вернуться? Впервые летом я не валял дурака, не пропадал на речке с утра до ночи, а работал как взрослый на сенокосе, зарабатывал деньги. Меня пригласил в свой экипаж отец моих школьных товарищей, братьев-близнецов Шуры и Васи С. Это были на редкость позитивные ребята: спокойные, уравновешенные, невозмутимые, веселые и – ни капли злости и агрессии. Кстати, одного из братьев, Шуру, мы посетили с сыном Андреем в 2018 году в родном селе Волгодоновка.
Таким образом, экипаж состоял из четырех человек, в задачу которых входило управление косилками или, как их в народе называли, травянками. Это цельнометаллическая конструкция, снабженная двухметровым косильным полотном с сегментными ножами, совершающим возвратно-поступательные движения по притертому металлическому основанию. Косилки, расположенные последовательно друг за другом с двухметровым смещением вправо, благодаря чему наш косильный поезд осуществлял захват в восемь метров, буксировал колесный трактор "Беларусь"; иногда – гусеничный. Мы восседали на металлических сиденьях и должны были при визуальном обнаружении камня или другого препятствия поднимать рычагом полотно, чтобы не повредить ножи. Но ножи все-таки "летели" время от времени, и тогда на поле оставались узенькие нескошенные полоски. Но из-за одного-двух сломанных сегментов полотно не меняли и работу не прекращали до обеденного перерыва или до вечера. При транспортировке полотно поднималось примерно под 30О и фиксировалось защелкой.



