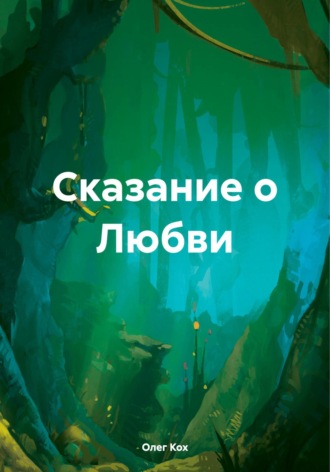
Полная версия
Сказание о Любви
Помню, на одном из таких сабантуев я ни с того ни с сего объявил в перерыве между танцами, что испытываю острую жажду и желаю выпить из горла бутылку водки. Так в чем же дело: хочешь пить – пей, зачем же делать громкие заявления? Так нет – надо выпендриться. Со мной такое бывает: стукнет в голову продукт деятельности некоего органа и… как говорят, – со всеми вытекающими… Умные и сердобольные люди отговаривали, как могли, но образумить голову, когда там вместо мозгов сами знаете, что – не представилось возможным. Посыпались советы: перед смертельным номером съесть полкило сливочного масла. Позвольте, но куда же после этого вливать драгоценную жидкость? да и какой эффект? – только продукт переводить… Водка, конечно, была выпита, и поскольку я, к удивлению болельщиков, не упал замертво и даже после шутовского номера еще и танцевал, притворяясь тверёзым, то друзья мои потихоньку успокоились.
А Володя Шулев, сытно покушавши, сладко спал в это время в соседней комнате Ряпосовского дома. Но увидев во сне, что пропал не за понюх табаку дефицитный напиток, вылез из-под теплого одеяла и, как был, в костюме Адама до грехопадения, правда, с фиговым листом на причинном месте, проследовал в банкетный зал и как ни в чем не бывало пригласил на танец самую красивую девушку Соликамска и его окрестностей. И они, грациозные и целомудренные, совершили вихревой тур. После чего Володя, не выходя из сомнамбулического состояния, невозмутимо удалился досматривать прерванные сны… Как видите, скучать было некогда. Какой там лесоповал! Какое там Тюлькино! До лесосплава никуда мы отсюда уезжать не собирались, из головы даже выкинули всяческие лесоповалы.
В один прекрасный день Надя пригласила нас к себе домой в двухкомнатную квартиру, только мы втроем и она. Я уже и раньше заметил, что между Надей и нашим Сашей что-то неладно: какие-то невидимые, но вполне осязаемые существа мечутся между ними. А на этом вечере мои наблюдения подтвердились, да они и не хотели скрывать своих взаимных симпатий. Я порадовался за друга: он был надежным и настоящим, и Надя это сразу поняла.
От Нади мы узнали, что в Соликамске есть турклуб и что там неплохие ребята, кое-кого из актива Надя даже знала лично. В один прекрасный день мы наведались туда. Сказали, кто мы и откуда и предложили в порядке обмена сделать общий концерт туристской песни, на что ребята охотно откликнулись; рекламу они взяли на себя. В указанные в объявлениях день и час (мы и у себя на комбинате повесили живописно, не без юмора оформленное объявление) мы всей нашей честной Ряпосовской компанией завалились в клуб. Ничего себе клуб, подумал я, не клуб, а настоящий дворец. Неплохо, однако, живут соликамские туристы.
Ребята из оргкомитета и их артисты были уже на месте в артистической комнате, ждали только нас, "заморских гостей". Мурашки забегали по спине, как только я увидел дворец, в котором нам предстоит выступать, а теперь, глянув из-за кулис в зрительный зал, я вообще потерял дар речи, и у меня подкосились ноги: зал был заполнен до отказа. Я последними словами клял себя, что добровольно затеял эту авантюру, а вместе с тем и оргкомитет, не пожалевший слов и красок для живописания нашей популярности и исключительности. Но скажите на милость, куда деваться бедному крестьянину?! Хочешь или не хочешь, а придется петь арию варяжского гостя, а может, индийского, в зависимости от температуры в зале и своей собственной. Как я ни пыжился, соликамцы заметили мой мандраж, и Гена Птицын, председатель турклуба и, по совместительству, Главный архитектор г. Соликамска, поспешил успокоить меня, что, мол, публика у них доброжелательная и что начинать все равно будут они. Я только попросил, чтобы нас представили как можно скромнее и проще (не как в объявлении). Например: туристы из Казани случайно, повторяю, не специально, а совершенно случайно забрели на огонек прямо из марийских лесов, ну прямо от костра – от них еще дымом несет за версту… – что-нибудь в эдаком роде… Гена с понимающей улыбкой заверил меня, что у него есть небольшой опыт предъявлять гостей публике и что все будет окей. Почему-то я ему поверил, и мне сразу полегчало. И действительно, он представил нас так тепло и с таким неподдельным юмором, на что у меня не хватило бы ни запалу, ни фантазии.
Но это было потом, а пока на сцену вышли соликамцы, человек пять-шесть. Гена сказал короткое приветственное слово, и они запели. Они пели свои туристские песни, песни вчерашних студентов прославленного Уральского политехнического института (сокращенно – УПИ), и как пели! В песнях этих не было ничего надуманного, в них не было излишнего пафоса и лирического нажима, в них не было спекулятивной игры на душевных струнах и заигрывания со зрителем, в них не было педалирования чувств, – в них все было испытано и пережито теми, кто их исполнял. Все остальное, присущее жанру туристской песни, в них было – и было с избытком. В них были свой стиль, свой почерк, свои образы и метафоры, характерные именно для УПИйцев. Чего только стоят такие строки: "По тропиночке узкой на северо-запад низко вытянул стланик мохнатые лапы…" – в двух этих строчках столько информации! и все достоверно, и ничего лишнего. Сразу понятно, что это Дальний Восток, раз стланик (низко стелющиеся и густо переплетенные между собой ветви хвойного кустарника), и это не просто созерцательное, красивое описание редкого элемента природы, здесь прямо сказано, что стланик своими мохнатыми лапами вылез на узкую тропу и сделал ее непроходимой, а значит, надо сквозь него прорубаться. Я хоть и был на Дальнем Востоке, но не в походе и стланика не видел. Зато в походе на Камчатке побывал мой сын Андрей и говорил, как им вдвоем с тезкой из Владивостока приходилось прорубаться сквозь такой стланик, и, поверьте, мероприятие это не для слабых. А следующая строка вызывает у меня сердцебиение от радости, связанной с предчувствием долгого пути: "и дорога под сердцем моим застучала…" А здесь тревожное состояние путника передается природе: "в тишине камыши осторожно вздохнут". А в этих строках по настроению зверя мы не только понимаем, что ему не повезло с рыбалкой, но и догадываемся об адекватном состоянии наблюдателя: "недовольный медведь над водою склонится, капли с морды дремучей в ручей упадут…" А вот слова из шуточной песни, хорошо передающие не только состояние усталости, но, самое важное, глубокую благодарность организму, что вывез, не подкачал: "ой, ноги, милые вы ноги, позвольте руку вам пожать…" Как это знакомо, и как это точно! Песни эти погружают не в выдуманный, приправленный сладкой эйфорией мир, а в реальный мир суровой, но бесконечно прекрасной природы, в мир настоящей дружбы и настоящих чувств, без которых нельзя, да и не хочется жить. Какой бесценный урок я получил от этих ребят и от этих песен и какой урок и опыт мне еще предстояло получить в походах с этими ребятами. Потом я узнал, что некоторые из этих песен сочинил Гена Птицын. Ценно было и то, что многие из зала подпевали ребятам на сцене.
Я настолько увлекся и настолько был захвачен этими песнями, что, когда нас объявил и представил Гена, мы вышли как ни в чем не бывало и продолжили на той же волне. Сначала мы пели втроем старые, наиболее известные и популярные песни Вихорева, Городницкого, Кукина, Визбора, Высоцкого, и нам подпевал зал. Потом Володя с Сашей ушли, и я стал петь песни, более свежие, которые большинство в зале не знало и не слышало (всё же Соликамск далече от Москвы, Ленинграда и Казани, где эти песни преимущественно и рождались): Визбора, Окуджавы, Вахнюка, Егорова, Клячкина, Кима, Галича и больше всего Бокова, о котором, разумеется, здесь не слышали и песни которого сразу полюбили. Я обещал ребятам устроить Валерин концерт в Соликамске и обещание свое выполнил, тем более что это не стоило мне ни малейшего труда. Оргкомитет сделал Бокову официальный вызов с компенсацией всех издержек, он приехал, с триумфом выступил и навсегда покорил сердца жителей этого замечательного города. Валера, в память об этом концерте, написал на деке своей гитары: "Соликамск – 1968".
Но это было потом. А пока меня не отпускали со сцены. Правда, я и сам не хотел уходить. Обычная история: сначала на сцену не затащишь, ибо коленки дрожат, а потом не выгонишь, ибо дрожь прошла, но на смену ей пришло нахальство. Но я не вру: меня действительно не отпускали. И дело, разумеется, не в моем исполнительском искусстве и тем более в аккомпанементе, который был весьма примитивным, а в водопаде злободневных песен, который я на них обрушил. Я смотрел на Птицына, сидевшего в первом ряду, но он, хорошо понимая мое недержание и желание облегчиться от бремени, кивал мне, что, мол, пой, Вася, пой! Ну тогда… щас спою… И пел до потери сознательности, да вот непонятно, чьей. …Концерт шел шесть! часов и закончился за полночь.
С этого вечера началась наша дружба. По выходным мы с ребятами ходили в походы. Даже эти непродолжительные походы воскресного дня отличались от наших и по духу, и по организации, и по некоторым техническим деталям. Наши были организованы по стилизованной военизированной форме и имели соответствующую иерархическую структуру (раньше я упоминал об этом): начальник – пол-литрук – завхоз. И хоть стиль этот и структура были в достаточной степени нарочитыми, все же это было наивно (если не сказать, смешно) и как-то по-ребячьи. Ребяческими, карнавальными были и надуманные нами, притянутые за уши из популярной литературы ритуалы и перевоплощения: то мы подражали индейцам и мушкетерам, то косили под пиратов и троглодитов. Да и песни пели по-ребячьи. Мы, не испытавшие того, что содержалось в серьезных туристских песнях, то надувались, как индюки, тужась влезть в шкуру персонажей, то погружались в вязкую, приторную, сентиментальную атмосферу песен, которой там не было, то экзальтированно и страстно уносились в виртуальный мир, о котором и понятия не имели. И юмор у нас был какой-то тяжеловатый, искусственный.
Ничего подобного не было у соликамских туристов. Невооруженным глазом было видно, что они прошли серьезную туристскую школу, и им не нужно было проживать в походах и в песнях вымышленную жизнь, не нужно было генерировать в себе суррогатные чувства. И в организации не было ничего надуманного. В коротких походах выходного дня не видно было, чтобы кто-то кем-то управлял, кто-то кому-то давал указания. Всё шло своим неспешным чередом, без всякой суеты, легко, непринужденно и весело, каждый отлично знал, что ему делать. Да и в серьезном, достаточно тяжелом четырехдневном походе на 9 Мая, где приходилось то весь день идти по болоту по щиколотку в снежно-ледяной воде, проваливаясь иногда по колено, то тащиться по скользкой горной тропе, в котором нам с ними посчастливилось побывать, не чувствовалось никакого руководства. Вместе с тем мы знали, что есть руководитель, который за все отвечает и слово которого – закон для всех, есть врач, медикаменты, и, значит, есть уверенность, что все будет в порядке.
Если хотите почувствовать организацию, ответственность и дух серьезных туристских походов, я отправлю вас в группу известного всем Дятлова, гибель которой на перевале до сих пор остается загадкой. Кстати, Юру Юдина, который был членом этой группы и которого по болезни отстранили от похода, я прекрасно знал, так как он был в составе нашей дружной соликамской компании, и мы с ним съели если не пуд соли, то полпуда уж точно. Мы научились у ребят также простым, чисто техническим вещам. Они часто брали с собой в зимние походы печку-буржуйку, а керогаз или спиртовку – обязательно. На ночлег устраивались в одной большой шатровой палатке, ложились в спальниках головами к центру палатки, а ногами к периферии, образуя что-то вроде солнца. Использовали ряд нехитрых, но очень удобных приспособлений, делающих туристский быт более комфортным.
Кроме Гены Птицына и Юры Юдина, в памяти остались семья Воротниковых (Слава, Люся и их самый активный и преданный туристской стихии трехлетний сынок Вовка) и три девчонки: Лариса, Тамара и Аннушка. С этими тремя девчатами у нас завязалась нешуточная дружба. Жили они в трехкомнатной квартире-общежитии. Как вы, надеюсь, уже заметили такая квартирная модель общежитий вообще практиковалась в тех местах. Лариса с Томой были, как и многие из туристской братии, из Свердловска, только Лариса из УПИ, а Тома, если не ошибаюсь, из финансово-экономического института. Аннушка же окончила инженерно-строительный институт (может быть, Пермский?) и работала на стройке прорабом. Девчата были очень дружные – не разлей вода, веселые и бойкие. С каким тонким юмором они пикировались между собой и как точно и метко поддевали нас при случае! Как-то мы с Володей Шулевым засиделись у них допоздна, остались ночевать, а потом и вовсе переселились в их живое, уютное гнездышко, благо, места было предостаточно: мы с Вовкой в одной комнате, девчата в другой, зал и кухня общие. Сколько мы песен перепели, сколько разговоров переговорили, какими простыми, естественными, целомудренными и родными были наши отношения!
Летом девчата вместе с Птицыным, Воротниковым и Юдиным (руководителем, кажется, был Слава Воротников) должны были уйти в поход на Камчатку в знаменитую Долину Гейзеров. Ребята предложили нам составить им компанию, но мы отказались: нас ждал лесосплав. Прямо с маршрута ребята прислали открытку с видом курящегося вулкана и краткий репортаж. Тогда только до меня дошло, от чего я отказался. Такое бывает раз в жизни! Зато там побывал мой сын Андрей и даже спускался в кратер этого вулкана, что категорически запрещено. И медведя видел, правда, в отдалении. А девчата, Лариса с Аннушкой, как-то зимой приехали к нам в гости в Казань, и мы вместе сходили в марийские леса.
Прежде чем отправиться на сплав, хочу предложить читателю еще один эпизод, свидетельствующий о том, насколько всё контрастно в тех местах, где нам довелось побывать. Как-то я был в гостях у кого-то из соликамских туристов и возвращался через большой темный парк. Вдруг услышал за спиной угрожающий топот бегущих ног. Я занимался легкой атлетикой и спокойно мог убежать от преследователей. Но в моей утробе сидел некто, не позволяющий это сделать. Вряд ли я успел сообразить, как мне поступить, скорее всего, это произошло интуитивно. Я был собран и сосредоточен и готов ко всему. Почувствовав дыхание на своем затылке и услышав храп над ухом, я резко обернулся, так что преследующий, чуть не налетев на меня, встал передо мной, как лист перед травой в сказке про Сивку Бурку. От неожиданности он ничего лучше не мог придумать, как выпалить: "Дай закурить!" Я внешне спокойно, но не без внутреннего напряжения достал сигареты и протянул одному и другому, держа обоих в поле зрения. После чего повернулся и пошел своей дорогой. Вот такая резкая перемена декораций: только что сидел в кругу друзей в расслабленном состоянии, и на тебе – такой стресс!
Во второй половине мая, когда Кама полностью очистилась ото льда, мы наконец достигли основной цели нашего паломничества: прибыли в Тюлькино – центральный участок лесоразработок и лесосплава в верховьях Камы. Лесоразработки там не прекращаются ни зимой, ни летом, а лесосплавные работы только начали разворачиваться. В конторе КЛС (Камский лесосплав) нам сказали, что сейчас основная задача – транспортировка леса по Каме до камского устья и сдача его волгарям (Волжскому лесосплаву) в конечном населенном пункте Соколки. Емкие, фундаментальные слова "Камский лесосплав" содержат в себе и могущественную организацию, и мощный процесс, требующий концентрации сил и ресурсов.
Мы на всякий случай (для очистки совести, что ли, ибо сами же решили, застряв на пищекомбинате, лесоповал проигнорировать) поинтересовались насчет лесоразработок. Авторитетное начальство КЛС успокоило нас, что, мол, новичков сразу на валку леса никто не поставит, а определят в бригаду сучкорубов, выдадут большой топор с длинной ручкой и – вперед на сучки! Намашешься за смену до потери пульса, свалишься, как труп, а наутро всё по новой. И за всё про всё – 100 рублей в месяц.
А у нас работа интеллигентная, не пыльная, вам даже пальцем не придется пошевелить. И только таким передовым людям, как вы, титанам мысли и инженерам человеческих душ мы можем доверить такую ответственную работу. Да мы только аванс выдадим вам 100 рублей! Перед таким авансом, весьма трудно было устоять (у нас стипендия 35), и мы согласились отдать лучшие интеллектуальные и прочие наши силы Камскому лесосплаву. При этом мы почему-то забыли, что именно от такого рода деятельности мы и убежали и что главный вектор нашего интеллекта и наших душевных сил был направлен именно на то, чтобы забыть про всякий интеллект и про всяческие душевные силы, чтобы сосредоточиться на самых грубых проявлениях и потребностях организма: повалять дурака, поиграть мускулами и пожить по принципу: сила есть – ума не надо. Вот так человек, считавший себя прогрессивным и целеустремленным, продает мечту за эфемерный блеск сверкнувшей монеты. Совершенно напрасно предупреждали нас, что люди гибнут за металл.
Нам выдали обещанный аванс, поселили в общежитии, и мы лихо гульнули во славу и процветание Камского лесосплава. Официально должность наша называлась – "плотагент", но в народе нас прозвали "плутагентами", что, на мой взгляд, больше отвечало характеру работы и характеру работников. Не зря говорят, что народ всегда прав.
Чтобы понять всю специфику нашей агентурной работы, нужно сначала познакомить вас со всем КЛСовским хозяйством и пояснить, какие существуют способы сплава леса и что представляет собой плот при буксирном лесосплаве. Признаюсь, что я представлял себе лесосплав буквально, как сплав на бревенчатом плоту по бурным рекам с порогами, а себя – управляющим этим плотом с помощью длинного шеста. Как в водном туризме, только задачи разные. Насколько я знаю, в то далекое время лес таким романтическим способом не транспортировали. Тогда было два основных способа сплава: молевой и буксирный. При молевом используется естественное течение реки, то есть бревна сбрасываются в реку, и они плывут до пункта назначения, где их вылавливают баграми или более сложными приспособлениями и механизмами. Таким непосредственным способом сплавляют лес, как правило, на камских притоках, где большому буксиру и даже катерам маневрировать либо затруднительно, либо невозможно, т. е. на участках с быстрым течением и с изобилием крутых и частых изгибов реки (криулей).
А чтобы объяснить буксирный способ, нужно рассказать, как из бревен формируется плот для буксировки. Бревна, прибывшие в сплавной пункт молевым сплавом, сортируют по виду древесины и по длине (на Каме было тогда два типоразмера: 4,5 и 6 м) и загоняют в так называемую Сетку, специально огороженные бревнами ячейки на воде. Когда в ячейке накапливается достаточное количество бревен, они с помощью механизмов, установленных на катере, увязываются в пучки диаметром 1,5 – 2 м специальными борткомплектами (комбинация из троса, цепи и замка). Затем эти пучки буксируются катерами на Участок сплотки, где они группируются в большую конструкцию, называемую "шлюзуемая" и имеющую размеры стандартной шлюзкамеры на ГЭС: 30 х 240 м. И, наконец, четыре таких секции увязываются в конструкцию основного плота размером 60 х 480 м. Вот эту конструкцию и транспортирует буксир. По Каме буксировались только четырехсекционные плоты, а на Волге число секций в плоту доходило до двенадцати. В то незабвенное время буксиры были двух типов: колесный пароход, питающийся углем, и теплоход, предпочитающий солярку (по-нынешнему – дизельное топливо).
В чем же состояла миссия плотагента? Коротко: мы принимали плот в верховьях Камы, сопровождали его до конечного пункта Соколки и сдавали представителям Волжского лесосплава. За что мы отвечали? Зоной особой ответственности являлась система обвязки плота: борткомплекты, тросы, цепи и замки (все-таки металл). При приемке плота мы все эти железки обсчитывали, а также считали количество пучков, которые почему-то назывались грузоединицами, и заносили всё это в Акт приемки. Вот в этом документе (всего один лист) и содержалась вся наша ответственность. При отправлении нам вручалась, кроме того, огромная, увязанная шпагатом кипа бумаг, которая, насколько я помню, называлась "фактурой", в которой содержались сведения о древесине и которую мы просто передавали на конечном пункте приёмщику из рук в руки.
При сдаче плота процедура пересчета "железок" и пучков повторялась и составлялся аналогичный Акт сдачи. Должен сказать, что искусство плотагента в том и состоит, чтобы увидеть все увязочные металлические детали и предъявить приемщику. Уверяю вас, это не всегда просто: иногда приходилось лезть в воду и даже подныривать под бревна, чтобы показать вредному приемщику хвост цепи или троса. Он на этом собаку съел и не одну и хорошо знает, что деталь там, под водой, есть, но ему надо "предъявить в натуральном виде". А иначе: "Я ничего не знаю!" или еще короче: "Не вижу". А пучки считать нетрудно, даже если некоторые из них притоплены и находятся под водой. Если цифры в двух Актах совпадают, такое бывает весьма редко, или расхождение незначительно, то к законной зарплате прибавлялась солидная (или не очень) премия, причем еще раз повторяю, что железки ценились значительно выше древесины. Премию могли выдать даже при недостаче одного-двух пучков, а это сотни бревен.
На буксире плотагент был вторым человеком после капитана, ему выделялась отдельная комфортабельная каюта. Обратно можно было возвращаться на том же буксире, но не знаю случая, чтобы кто-нибудь пользовался этим избыточным комфортом и возможностью расслабиться, как в доме отдыха. А на прямой дороге, при буксировании плота, мы что, уголь кидали в ненасытную пасть парохода? Чем мы занимались, как не отдыхом в чистейшем виде, но об этом еще будет время рассказать. Все обычно спешили обратно за следующим плотом, а чаще – двумя, тремя, а то и четырьмя, прыгая с одного быстроходного судна ("Ракета", "Метеор") на другое и, как правило, бесплатно или, в крайнем случае, по детскому билету до ближайшей остановки. В то легкомысленное, летучее время таких быстроходных СПК – судов на подводных крыльях – по рекам Советского Союза сновало видимо-невидимо: туда-сюда, туда-сюда.
В этой связи памятен один курьезный случай, о котором еще долго гуляла молва по всей Каме. Шли мы как-то вверх с ребятами из Йошкар-Олинского политеха. Трое из нас, как обычно, договорились с капитаном "Метеора" (некоторых знали в лицо): "Кеп, возьмешь бедных плутагентов на борт?" – "Нет базара – садись!" – был короткий ответ. А Валера – гордый человек огромного роста, с черной, как смоль, бородой – взял детский билет до ближайшей остановки в глубоком заливе, куда нужно делать большой крюк и куда судно заходит, только когда есть пассажиры в этот пункт. Мы предупреждали его, чтобы взял билет до следующей за заливом станции, что дело пахнет керосином. Но Валера, человек крайне принципиальный, сказал: "Еще чего, буду я платить лишних 10 копеек". Обогнули длиннющий мыс, причалили… – никто не выходит. Капитан по громкой связи пассажирам: "Посмотрите, тут должен сойти ребенок, может, уснул…" Никакой реакции, не хочет ребенок выходить и всё тут. Капитан еще раз, грозно: "Третий раз спрашиваю, кто ребенок, который должен здесь сойти?!" Встает Валера во весь свой огромный рост и густым боцманским басом на весь теплоход спокойно оповещает: "Я ребенок, а в чем, собственно, дело?" Капитан сказал ребенку на прощанье: "Высаживаю принципиально. Что, не мог подойти по-человечески? Будешь сидеть здесь двое или трое суток, вряд ли в эту дыру раньше кто-нибудь заглянет". Но не такой был Валера человек, чтоб сидеть, как Робинзон, на необитаемом острове. Его подбросили на моторке до более популярной станции, и он вскоре нагнал нас. Правда, обошлось это ему много больше 10-ти копеек. Зато родил легенду и не уронил достоинство гордого и независимого плутагента.
На сплавной рейд мы прибыли рановато (плоты еще не были готовы), зато первые: не надо было становиться в очередь за плотами. Чтобы быстрее войти в курс дела, нам посоветовали познакомиться с технологией сборки плота на Сетке и Участке сплотки, что мы и сделали. Остальное время были предоставлены сами себе. Днем бродили по поселку, вымощенному довольно высокими деревянными тротуарами, и я вспоминал песню Городницкого: "А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы…" или Симонова: "В домотканом, деревянном городке, где гармоникой по улицам мостки…" Весной в половодье по поселку плавают на лодках, и мы еще застали это венецианское водостояние домотканого городка.
По вечерам в общежитии выпивали с новыми знакомыми, пели блатные песни; кое-что узнавали про них. Например, что сами они вчерашние зеки, перебиваются случайными заработками и кое-чем промышляют. Погуляют на воле некоторое время, залетят и снова сядут. И так многие здесь. Судьбы были в чем-то разные, в чем-то похожие. Похожие тем, что никто не хотел садиться, что жизнь в лагере для большинства – ежедневное хождение по краю пропасти, по острию ножа: далеко не все – воры в законе, паханы и авторитеты. Как правило, все были сентиментальны, любили тягучие жалостливые песни и слушали их со слезами на глазах. Все жалели о прежней жизни на "большой земле", на "материке".



