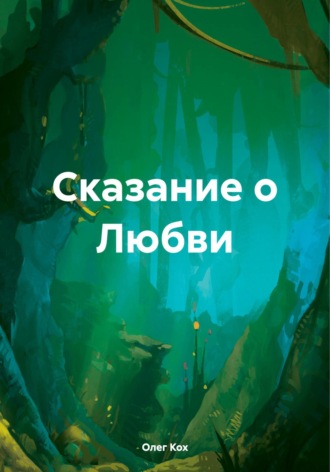
Полная версия
Сказание о Любви
Я понял также, что никаких двух миров нет. Что официально в нашей стране может быть только один мир: морально устойчивых и идеологически выдержанных, и что любой другой мир – наши враги, с которыми нужно вести непримиримую борьбу. И еще я понял, что есть люди и есть Идеологическая Система и что вне этой Системы люди – не Люди, а людишки, которых Система легко может стереть в порошок или закатать в асфальт. "Как узок кругозор штыка, но сущность очень глубока" (И. Брейдо). Что люди, находящиеся внутри Системы, являются заложниками этой Системы и не могут поступать по собственному произволу и не дай бог по своей совести. Что это еще такое – своя совесть?! Такой совести нет и быть не может! Партия – наша коллективная совесть!
И я совсем по-другому взглянул на людей, меня окружающих: на начальников и подчиненных, на работников деканата и студентов, на простых студентов и на студентов – членов общественных организаций и, следовательно, облеченных особенно большой властью. И что власть эта хоть и сладка, но может быть и обременительна. И что людям часто приходится играть две (а то и более) роли: роль простого, частного человека и роль человека общественного, облеченного властью и обязательствами. Так и студенты (а что студенты – не люди, и из другого теста?): они не хотят быть на задворках Системы, им тоже хочется сладкого пирога. Совесть – штука ненадежная, с нею чаще всего хлопотно, поэтому она не должна быть константой, в лучшем случае, ей дозволено быть относительной величиной, её, если нужно, можно и припрятать, и продать. "Настало время, и в любой момент возможно, ни о чем не беспокоясь, забыть про этот странный рудимент, – его когда-то называли совесть" (И. Брейдо). А Система надежна и незыблема, её не спрячешь и от неё не спрячешься. Во благо такой Системы можно и сподличать – Система все спишет.
Я постарался понять всех и войти в положение каждого. Вот идет заседание учебной комиссии, стоит обвиняемый бедолага, его нужно осудить, да не простым поднятием руки, а аргументированным доказательством его вины. Над каждым членом, как дамоклов меч, висит вопрос: "Ты зачем здесь сидишь?! Член ты или не Член?!" И волей-неволей приходится надевать доспехи и вставать на смертный бой за правое дело: "Вставай, проклятьем заклейменный!" Вот уж поистине: проклятьем заклейменный! Точнее не скажешь. В этой связи вспоминается яростный плакат В. В. Маяковского с воткнутым в тебя, как нож, пальцем: "Друг ты или враг, свой или чужой?!"
А взять наш деканат. Декан – М-н. Все в один голос пели мне в уши, какой он прекрасный человек, участник войны, орденоносец и что все студенты почитают его за отца родного. Да я разве против, я даже очень рад, хотя я его видел только на собраниях и то два или три раза, и он не дал мне ни единого повода испытать к нему сыновнее чувство. Он даже отчислил меня инкогнито. Но я ведь прекрасно понимаю, что таких, как я, двоечников у него – пруд пруди. И он просто не имеет физической возможности лицезреть каждого: хочет, но не может! А сколько у него других, более важных обязанностей: на ректорат ходи, на партсобрания ходи, об успеваемости и дисциплине там и там доложи, нотации и внушения там и там получи, тут еще и ЧП, которые тоже нередки. А куда деваться от КГБ, который берет за горло: кровь из носа – обеспечь стукачами. О том, что в каждой группе есть стукач, я узнал, когда эту удавку через два года попытался накинуть мне на шею другой наш декан. А о текущих делах деканата и говорить нечего. А вы говорите: "отец". Сплошная безотцовщина.
И все же я понял, что жить в стране, где владычествует Система, можно, оставаясь человеком и не теряя человеческого достоинства. Важно не иметь с Системой никаких дел и держаться подальше от ее структур. Я понимал, что это не просто, но верил, что люди в большинстве своем – нормальные и настроены на добро, об этом говорил и мой небольшой жизненный опыт. Что же касается "структур", то, не делая заявлений и деклараций, внутренне я перестал быть комсомольцем, а в партию решил не вступать ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах. Но и прятаться в кусты и засовывать голову под крыло я не собирался – не приучен. Да и кто может запретить мне жить свободно, полной жизнью. Делай что должно, а там – будь, что будет. "Кабы не скрипки, кабы не всхлип виолончели, мы бы совсем оскотинились, мы б осволочели" (Л. Лосев).
P. S. Удивительно, что предтечей всех внешних неурядиц было соответствующее психологическое состояние – которое я назвал бы крушением иллюзий, – возникшее в то время, когда ничто не предвещало этих самых неурядиц. Об этом свидетельствует неотправленное письмо домочадцам от 9 декабря 1967 года, которое я обнаружил в архивах уже после написания настоящей книги.
Здравствуйте, мама, папа, Света, Люда и бабушка!
КАЮСЬ…. Странно: в мыслях я постоянно с вами, а писать не могу.
МЫСЛИ… (Ужасная штука. Они преследуют меня везде и всюду: дома, в институте, в трамвае, на улице. Я опутан ими, словно паутиной, с той разницей, что паутина – это сеть, система, выполняющая определенную функцию, а у меня – никакой системы: хаос и брожение.) и ЧУВСТВА… Сколько их… Все они так или иначе связаны с многострадальным студенчеством.
Студенчество… Многоликая, разношерстная масса. Сколько непонятных ассоциаций связано у несведущего с этим словом, сколько романтического, таинственного сокрыто для него в этом звуке, сколько поэзии, музыки и, конечно, "прометеева" огня.
Я должен разочаровать тебя, не познавший счастье и несчастье студенческой жизни.
Представь картину. Суббота. В общежитии танцы. Любители острых ощущений с нетерпением потирают руки в предчувствии хорошей охоты. И вот первые, режущие слух мажорные звуки джаз-оркестра кричат: "Охота началась!" На площадках между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами пестрого люда – не протолкнешься. А сколько здесь "дичи!" Робко ожидая своей участи, стайкой расположились трепетные лани из пединститута. А вон, у лестницы, гордо красуются белокрылые лебеди из медицинского. То тут, то там мелькают загадочные тени птиц Феникс из финансово-экономического. В поисках жертвы бродят вольноопределяющиеся, не охваченные образовательными структурами хищницы: они не могут ждать милостей от природы. Охота, конечно, не всегда и не сразу удается, но настоящего охотника сие обстоятельство не смущает: чем горче корень, тем слаще плод.
Заглянем теперь в одну из комнат. Мы, кажется, попали в КЛВ (клуб любителей выпить). На столе бутылки – пустые и недопитые, – скромная закуска (килька, хлеб, колбаса), окурки. Беспорядочный звон гитары перемежается с изрыгаемыми магнитофоном звуками. Смех, пьяный гвалт, обрывки песен из репертуара "после пятого стакана". Мы, кажется, не туда попали. Идем дальше по коридору. Но что это? Нечто похожее на болото преградило нам путь. Смахиваем скупую слезу: "Ведь он чуть-чуть не дотянул, совсем немного…" Да, "до клозета дойти нелегко…"
Волна возмущения, негодования, должно быть, захлестнула тебя, мой не ведающий настоящей жизни друг: как? почему? кто они? что они? подонки? моральные уроды? Нет. Не то и не другое. Простые обыватели, укрывшие свои истинные лики за карнавальными масками. Они несутся, подхваченные стихийными процессами, стремительным потоком времени ("и не остановиться, и не сменить ноги"), сметая всё на своем пути ("перед нами всё цветет, за нами всё горит"). Рабы обстоятельств, сами того не ведая, они живут по формуле: "Один раз в жизни живешь, что можешь, от жизни берешь" и не задумываются над тем, какая миссия на них возложена, о долге перед родными и близкими, перед обществом, перед собой, наконец. Но трудно устоять перед всякого рода соблазнами, да и к чему: "Ведь девушек пылких и водки бутылку с собой на тот свет не возьмешь". Отсюда – недалекие планы, узость интересов, скромные запросы: получить специальность, квартиру, жениться… Их девиз: "Как-нибудь". Они закончат институт и, несомненно, будут приносить пользу, но не в силу внутренних побуждений, а в силу необходимости.
Конечно, до героев романа, берущих от жизни всё и не дающих ничего, причем делающих это сознательно, им далеко. Мне приходилось уже слышать: "От жизни надо брать всё!" Может показаться, что эта формула похожа на первую, но в неё вложен иной смысл, она содержит хищническое начало. Она исповедуется сытым обывателем, хозяином жизни. Волчара, съев одну овцу, постарается съесть другую; волчишка же, спасающийся от погони, либо пробежит мимо соблазнительного лакомства, либо проглотит его на бегу.
Повторим наше путешествие в один из рядовых дней. Удивительные перемены: пол в коридоре чисто вымыт, болото осушено, в комнатах светло и уютно, постели аккуратно заправлены, на столе чистая белая скатерть. Да и обитатели их – самые обычные люди, каждый занят (или не занят) своим делом.
12 декабря, час ночи. Прочел свою писанину и, признаться, стало жутковато. Но не писать об этом, значит, вообще не писать.
На мой взгляд, страшнее другая категория довольных собой и жизнью студентиков. О ней красноречиво говорит следующий эпизод. В общежитии – отчетно-перевыборное собрание. Уже – 8, а в "Красном уголке" – никого. Хожу по комнатам, умоляю: "Ребята, милости прошу – на собрание. Ведь от нас же зависит, как будет организована жизнь в общежитии". На этот глас вопиющего в пустыне ответствует недовольное шуршание верблюжьей колючки: "Я живу тихо-мирно, качусь себе куда ветер дует, никого не трогаю; и вы меня не трогайте".
Дух недомогания, усталости, граничащей с безразличием, равнодушием царит в общежитии. В такой атмосфере искре не суждено возгореться в пламя – сказывается нехватка кислорода в воздухе. А ведь свежий воздух можно пить взахлеб, стоит только оглянуться вокруг и найти источники его. А лучше поглубже нырнуть в себя и спросить, чего же жаждет исстрадавшаяся душа?
Есть и цельные натуры, способные и неспособные, с фанатизмом, выраженным в разной степени. Первые, способные, чаще всего погружаются в ученическую рутину и с утра до вечера настырно и неутомимо грызут гранит науки, прилежно и старательно (не отсюда ли "старатели?") моют золотоносный песок, предвкушая будущие дивиденды. Другие – из кожи лезут, дабы удержаться, дотянуть до шестого курса.
Пришла пора познакомить тебя, мой взыскательный друг, с родственными мне по духу людьми. Это мятущиеся души, отшельники, беспокойные сердца. При первой возможности они уходят от "суеты городов и потоков машин" в леса. Что может сравниться с красотой зимнего леса! Величественные сосны в зимних шапках, морозная тишина (тебе приходилось слушать морозную тишину?), а вместо пушкинской зимней скучной дороги из-под ног весело убегает озорная, манящая в даль лыжня. Каким ничтожным кажется всё низкое, мелкое рядом с величием этой сокровищницы духовных богатств, русской природы. А разве можно спокойно пройти мимо картины: избушка, затерявшаяся в лесу, в печке весело потрескивают дрова, мелодично поет гитара, тихо звучит туристская песня. Какое счастье сидеть у этой печки в кругу близких тебе по настрою лирических струн ребят и без конца глядеть на задорно прыгающие языки пламени!
Вот я и посвятил тебя, приятель, в тайны студенческой жизни. А таинственный ларец, оказывается, просто открывался. Правда, схема деления студентов на категории весьма упрощена и грубовата. Нужно учесть, что категории эти диффундируют друг в друга, переплетаются, резко выраженных границ между ними нет…
Итак, я ощутил себя вольной птицей и стал готовиться к дальнему перелету. Перелет этот предложил мой боевой друг и соратник по туристской рати Саша Жевнов. Это был самый мужественный, благородный и неравнодушный человек, которого я когда-либо знал. Высокий, жилистый, упругий, слегка заикающийся в минуты душевного напряжения и раскованный, с застенчивой улыбкой в кругу друзей, он был человеком высокой пробы. Великолепный фотограф, практически – профессионал, для турпоходов, согласитесь, редкая находка. Сашу отчислили за то, что он, защищая незнакомую девушку, попал в милицию. Все, включая пострадавшую, разбежались, а Саша бегать от кого бы то ни было считал ниже своего достоинства. В деканате разбираться не стали: визит в милицию не по своей воле однозначно карается отчислением. Я предлагал помощь (Симонов М. П., Витя Мизгер), но Саша наотрез отказался: "Доказывать, что не верблюд, – не хочу и не буду! Точка!" А ведь он был без пяти минут инженер, ему оставалось только защитить диплом в начале февраля. Саша, будучи родом из Сарапула и зная кое-что о лесоразработках и лесосплаве на Каме, предложил двинуть наши молодые силы в места не столь отдаленные, в места романтические.
К нам примкнул тоже боец из нашей туристской группы Володя Шулев, студент моего курса, взявший академический отпуск. По темпераменту Володя был чистейшей воды флегматик, таких суперфлегматиков я больше никогда не встречал. Среднего роста, симпатичный – редкая девушка пройдет мимо, не обратив на него внимания, – абсолютно невозмутимый и ровный во всех жизненных проявлениях (голос, мимика, походка, жесты), как гладь озера в абсолютный штиль. Лишнего слова не скажет, но, если спросишь, коротко и доброжелательно ответит, при этом в уголках губ появится едва заметная улыбка. Не помню, чтобы он сам о чем-нибудь расспрашивал, как будто сам давно все знал. Глаза теплые, умные, наблюдательные, всегда направлены навстречу собеседнику. Весь его облик как нельзя лучше объясняет и оправдывает слова: "обаяние", – "органика".
До намеченного срока отправления оставалось буквально два-три дня, когда в дверь моей комнаты № 309 тихо постучали. Я открыл дверь и увидел на пороге… – отца. Я был ошарашен и растерян, масса вопросов молнией пронеслась в голове: как? откуда? почему здесь? как узнал? Тем не менее я был искренне рад… Мы обнялись, и я почувствовал тепло родного человека и, как это ни странно, отцовскую опору. А я-то думал, что уже взрослый и ни в какой опоре не нуждаюсь. Я не услышал от отца ни слова упрека и осуждения, даже намека на это. Он ни о чем не расспрашивал (как я был благодарен ему за это!). Сказал, что как только получил извещение из деканата, сразу же сел на поезд и с вокзала – прямо в деканат. Сказал, что декан пообещал восстановить меня на третий курс. Я попытался возразить, что, мол, этот институт мне не подходит, и я решил поступать на механико-математический факультет Казанского университета; а пока мы с друзьями решили поехать на заработки. У отца на глаза навернулись слезы. Я никогда не видел папу плачущим и тут только понял, какое горе причинил самому близкому человеку, с пронзительной остротой почувствовал, как он любит меня, как привык гордиться мной и возлагать на меня надежды. Не раздумывая, дал отцу твердое слово восстановиться. И будто гора свалилась с наших плеч.
На следующий день я с легким сердцем посадил папу на поезд. А еще через день и нам надо было подаваться в дальние края, манящие своей неизвестностью.
Никого не виню,
что порой легче тело содрать, чем пальто.
Всё гниет на корню.
Я не ведаю, что я и кто.
Я, как жгут, растянул окончания рук, я тянулся к звезде.
Мне везде было плохо и больно. Везде.
От себя не уйти.
Что-то колет в груди.
И качаются тени.
На стене. И закат не похож на рассвет.
Я, войдя в этот мир, оказался в чужом сновиденье.
Пробуждения нет. Пробуждения нет.
(Б. Рыжий)
Глава 9. Ссылка
“Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города".
(О. Мандельштам)
Верховья Камы… Темная вода…
Где каждый сам себе плывет по воле волн.
И если встретишь одинокий челн,
не спрашивай: откуда и куда.
Провожать нас на поезд "Казань – Соликамск" пришла куча народу. Проводы начались еще в общаге, мы хорошо заправились горючим, будто чувствовали, что ждут нас на севере холода. Смутно помню, как нас запихали в вагон? …И поезд помчал нас в сиреневую даль.
В Соликамск мы прибыли вечером, в густых зимних сумерках – в ту самую пору, которую французы называют “между волком и собакой”. Этот северный город на Каме, овеянный славой купцов Строгановых и именно им обязанный своим названием, встретил нас обычной в это время года февральской метелью. Мы узнали, что автобусы в Тюлькино (крупный сплавной и лесозаготовительный поселок на Каме) не ходят, так как ледяная дорога на Каме заметена и расчистят ее только тогда, когда кончится полоса вьюг и метелей. В привокзальной гостинице мест не оказалось, сказали, что в городе тоже нет, и мы невольно прониклись уважением к Соликамску: зимой в будний день и нет мест! Даже большой мегаполис не может себе этого позволить. Нам стало весело, сидим в зале ожидания и курим.
Вдруг к Володе шаркающей блатной походкой подруливает забавная девица в испачканной краской телогрейке, в кирзовых сапогах с щегольски закатанными голенищами, в шапке-ушанке (я даже не сразу сообразил, что это особа женского пола) и, как у закадычного друга, просит у него закурить. Ее необычный, экзотический вид, непринужденная, без комплексов, манера поведения, приблатненная, развязная поза во время прикуривания у Вовки сигареты и, главное, нецензурная лексика – всё вместе вызвало у меня приступ нервно-гомерического, идиотского смеха, что привлекло ко мне внимание этой особы. Как она на меня накинулась, как стала крыть матом! Это был обычный, незамысловатый мат. Необычным было то, что мат этот извергали уста довольно-таки симпатичного создания, и что лексикон этого создания почти полностью состоял из этого древнего, как мир, языка. Я никогда не слышал, чтобы девушка, да еще и симпатичная так естественно и органично говорила на этом выразительном фольклорном языке, и это обстоятельство сделало мой смех просто истерическим. Я не знаю, что бы эта девица со мной сделала, если бы меня не спас Саша Жевнов. Он спросил у нее, где тут можно перекантоваться. Она сразу переключилась на деловой лад и сказала: "Хрен с ним! Доведу вас, хотя с этой старой проституткой мы – на ножах", – все это говорилось ровным, обыденным голосом, на языке, гармонично разбавленном сочным матом в такой пропорции: одно слово нормативное – три слова матерщины. Шествие наше, наверно, выглядело весьма забавно: впереди Вовка с Сашкой вели мадам в ушанке, что-то живо рассказывающую на своем экзотическом языке и помогающую себе выразительными жестами, а сзади на безопасном расстоянии плелся я, давясь от смеха. До меня долетали обрывки фраз про какую-то простыню, про каких-то постояльцев.
Остановились мы перед бревенчатым домом, над дверью которого значилось: "Дом колхозника". – "Придется прикинуться колхозниками", – подумал я. Людмила (так звали нашу провожатую) уверенно, как к себе домой, толкнула дверь, и мы оказались в небольшой прихожей. Из-за печки вышла невысокая плотная бабенка и без всяких предисловий накинулась на Людмилу с отборной мужицкой бранью, не удостоив нас ни малейшим вниманием. А ведь мы по сравнению с обитателями этой ночлежки были прилично одеты и вообще имели весьма респектабельный вид. Людмила нисколечко не оробела, как будто ожидала нападения, и пошла горячая перепалка. Из разных углов приюта выползли "колхозники" посмотреть бесплатный спектакль. Когда, казалось, дело дошло до рукопашной, Людмила бросилась в левую комнату, достала из-за печки скомканную окровавленную простыню и швырнула ее в лицо хозяйки приюта, которая сразу успокоилась и, как ни в чем не бывало, вежливо обратилась к нам, чего, мол, мы изволим желать. Мы сказали, что желали бы остановиться в таком гостеприимном и занимательном Доме. Без всякой бюрократической проволочки, не спрашивая кто мы и из какого колхоза прибыли и не требуя не только документов, удостоверяющих, что мы – колхозники, но и банальных паспортов (столь высока и безупречна была репутация Людмилы в этом Доме и столь велика цена неожиданно обретенной простыни), хозяйка выдала нам постельное белье, показала наши кровати, и мы таким образом приобрели крышу над головой и домашнее тепло, а это, согласитесь, совсем немало, тем более когда за бортом бушует вьюга.
Наша ночлежка представляла собой довольно большое помещение, разделенное печкой на две комнаты: маленькую квадратную правую и большую длинную левую. К правой примыкала небольшая каморка с отдельным входом, в которой жила хозяйка. Мы поселились в правой, более уютной. Кроме нас троих, в этой комнате постоянно проживал весьма странный мужчина средних лет, этакий чеховский персонаж, человек в футляре: "ничего не знаю, моя хата с краю". В другой, длинной комнате народ был более разнообразный и менее постоянный. Более или менее постоянно жили в ней два парня: Степан 18-ти лет и Юра – 25-ти. Остальные – поживут два-три дня, потом исчезнут на столько же, потом снова появятся. А были и такие: завалятся со шмарой, поскрипят ночью железной кроватью и – только их и видали. После первого такого визита мы присвоили Дому колхозника более почетное и привлекательное название "Дом терпимости" (информация к размышлению: терпимость, смирение – христианские добродетели).
Шли дни, а непогода не утихала. Как-то прошел слух, что скоро нашу обитель осчастливит своим визитом большой человек и большой авторитет, вор в законе дядя Саша. Гастролеры, которые появлялись на два-три дня, почему-то срочно покинули тонущий корабль. Нам было чрезвычайно любопытно, что это за "дядя Саша" такой, что от него все крысы разбегаются.
И вот в один прекрасный день Володя с Сашей лежат на своих кроватях и что-то читают, человек в футляре спит в своем углу, повернувшись лицом к стене, я сижу и под завыванье вьюги бренчу на гитаре. Вдруг в нашу комнату заходит высокий худой старик, берет стул, ставит спинкой вперед напротив меня, садится на него верхом и упирается в меня тяжелым пристальным взглядом. От неожиданности я перестал бренчать, но взгляда не отвел. Дядя Саша (я сразу понял, что это был именно он) выдержал паузу и повелительно, тоном, не допускающим возражений, коротко приказал: "Играй!"
Не привыкший к такому грубому обращению и к такому тону (в голове молнией пронеслось, чем же ему ответить?), я, дерзко глядя ему в глаза, запел, чеканя каждое слово и вонзая их в него, как ножи, как пули (откуда я мог знать, что эти слова и были для него ножами в самое сердце): "Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час в пехоте передышка…" Ну скажите, почему я завел именно эту песню Высоцкого?! Я внимательно наблюдал за ним и не верил своим глазам: его большая голова с сухим лицом, изрезанным крупными морщинами, стала клониться вперед, а на глаза наворачивались слезы… И вдруг из нутра его будто граната рванула: "Хва-атит!!"
Я прекратил петь, но продолжал зло и беспощадно смотреть на него. Если бы он был в состоянии оценить мой кичливый вид, он бы в лучшем случае посмеялся над моей заносчивостью, над моей наивностью, а скорее всего, одарил бы меня презрением: мол, моська, а лает на слона. Но ему эта моя мелкая месть была до лампочки, ему было не до меня, он был где-то далеко от меня и от всех нас. Он сидел погруженный в свои, неведомые для нас думы, нисколько не стесняясь своих слез. Немая сцена, казалось, длилась целую вечность. Потом он молча встал, достал из кармана бутылку водки, поставил на стол, кликнул из соседней комнаты кого-то из ребят, Юру или Степку, дал денег и велел сгонять в магазин.
Мы познакомились. Он спокойно, но с заметным интересом расспросил, кто мы и откуда. …Разлив водку по стаканам, дядя Саша попросил меня еще раз спеть "Штрафные батальоны". Я пел теперь совсем по-другому, как будто я сам был штрафником и шел в прорыв, и бил штыком, и бил рукой фашистского бродягу… И опять у него на глазах были слезы, и я видел, что в данный момент он был там, и понимал, что эта его боль не случайна, и каким-то шестым органом ощущал, что боль эта связана с каким-то неизбывным горем, происшедшим с ним лично. Я также почувствовал, что переживания его связаны именно с этой песней, что больше никаких песен о войне петь не нужно, и без паузы переключился на наши задушевные лирические костровые песни (Саша с Володей стали мне подпевать).
И я увидел, что дядя Саша постепенно возвращается к нам из той страшной войны, из того жуткого состояния, в котором он находился. Мы всемером сидели за столом (даже человек в футляре к нам присоединился), пили водку, пели песни, и какая-то теплая, доверительная атмосфера установилась между нами, будто добрая фея парила над нашим столом.
Диву даюсь: что случилось? Каким образом совершенно разные, едва знакомые люди могли так быстро и так тесно соединиться? Кто и что соединило их? Степа с Юрой жили в соседней комнате, и мы с ними даже не здоровались. Человека, проживавшего с нами в одной комнате, мы из уважения к возрасту и из элементарной вежливости звали по имени отчеству, но ни в какие разговоры не вступали: он не нуждался в нас, а мы не нуждались в нем. Так кто же виноват в произошедшей с нами метаморфозе? Дядя Саша? Но ведь он был завсегдатаем этой ночлежки, приходил сюда, как к себе домой, и безусловно имел над ней власть: наш сокомнатник боялся его, как черт ладана (видно было, как он затаился, сжался, когда вошел дядя Саша), а пацаны, вероятно, вообще были у него на побегушках. Так в чем же дело? Не нахожу объяснения. Видно, на то она и метаморфоза, что ничего в ней не поймешь…



