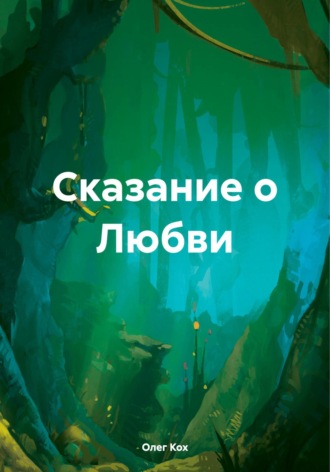
Полная версия
Сказание о Любви
Запомнился один парень и его печальная история. Среднего роста, худой, с не по возрасту мальчишеским (ему было около тридцати лет), симпатичным и совсем не зековским лицом. Он, будучи ленинградским студентом, пырнул из ревности ножом своего соперника и на семь лет отправился охлаждать разгулявшиеся страсти в лагерь строгого режима. Он рассказывал свою трагическую историю, рыдая не столько оттого, что пришлось с избытком хлебнуть лагерной баланды, сколько от безысходности, что ничего нельзя поправить, ничего нельзя вернуть…
Были и отъявленные негодяи, которым зарезать человека, что, как свидетельствует народная мудрость, два пальца … Как правило, они были трусы и борзели (сказал бы покрепче и точнее, но формат не велит) только под покровительством сильных и наглых дружков. Вот характерный случай, который произошел гораздо позже, следующим летом, когда мы разнесли по всей Казани весть о романтической профессии плотагента и когда за нами потянулся целый шлейф искателей приключений. Среди них был и студент нашего факультета – некто по прозвищу "Чика". Небольшого роста, плотный, какой-то нервный и резкий в движениях, с неприятно бегающими зенками, он производил жалкое, отталкивающее впечатление. Татарин по национальности, но весь черный и волосатый, он был похож на кавказца, и они принимали его за своего. В Тюлькино в общаге он перед всеми заискивал и, мне показалось, даже подчеркивал свое ничтожество.
В это же время на рейде появились кавказцы. Не знаю, какой они были национальности – мы их называли просто "черные", – но это была дружная и беспощадная банда. Среди бела дня я куда-то шел с гитарой. Эти веселые ребята, большие любители пошутить, попросили у меня гитару "поиграть" и как ни в чем не бывало пошли с моей гитарой своей дорогой. Я – за ними вдогонку: "Хорош шутить! Отдайте гитару!" Они, в искреннем недоумении, – буквально следующее (как сейчас помню): "Слущий, друг. Гитару мы тэбэ дать нэ можим, что-нибудь другое мы тэбэ зделать можим!" И пошли, совершенно уверенные в своей правоте. Больше я своей гитары не видел.
Они сразу взяли Чику под свое вороное крыло. Чика поднял хвост, стал ходить гоголем и всех задирать. Один зек попытался урезонить его, Чика выхватил нож (в коридоре было темно) и уложил видавшего виды урку наповал. Этого мерзавца посадили на ночь в КПЗ здесь же в Тюлькино. Так "черные" ночью сорвали с КПЗухи все замки (дежурный милиционер бежал) и "освободили" своего говенного дружка. С тех пор Чику никто не видел. В институте он не появлялся, думаю, что в Казани у родителей – тоже.
Вернемся в настоящее время и продолжим этнографическую летопись. Аборигены, что живут в поселке в своих домах, тоже вчерашние или позавчерашние зеки, но осевшие, остепенившиеся. Однако жесткие: палец в рот не клади. Очень скоро (через пару дней) нам представился случай испытать их суровый нрав на своей собственной шкуре, а несколько позже (через месяц приблизительно) мы чуть было не оказались свидетелями настоящей баталии между местными и пришлыми с применением огнестрельного оружия (хорошо, что не пушек и пулеметов), опоздали всего на день. Мы узнали, что такое здесь периодически случается. В выигрыше оказываются местные, ибо крепко держатся друг за друга. Жить им в цивилизованных городах нельзя, да они и сами не хотят, здесь им привычнее.
От собутыльников же в общаге узнал, что на лесоповале можно прилично заработать, но очень трудные условия: нужно вкалывать на полную катушку, мошка поедом ест и пить нельзя – сухой закон; что есть одна блатная летучая бригада, которую бросают на самые выгодные участки (в основном рубят просеки под ЛЭП), щедро снабжают техникой и жратвой и которая зашибает крупную монету. Легка на помине, эта бригада через пару дней и нагрянула в общагу на передых, а заодно и водочки попить. За выпивкой мы коротко познакомились. Им, видать, понравились мои песни, и бригадир предложил мне заменить их убывшего товарища; сказал, что я им подхожу. Я высказал свои сомнения, смогу ли, "Дружбу" (бензопила) в руках никогда не держал. Кроме того, сказал, что нас трое, не могли бы они взять моих друзей. Бугор усмехнулся: работать научим, а друзей взять не могу: место только одно (их было пять или шесть человек). Пришлось отказаться, а соблазн был большой: хотелось испытать себя.
Как-то днем иду по поселку, а навстречу развязной блатной походкой – стая девиц, человека четыре. Окружили меня и давай изгаляться: "Тю-тю-тю… А кто это к нам приехал? Да откуда ты такой молоденький взялся?" – и ощупывают меня похотливыми зенками, будто шарят под одеждой шаловливыми ручонками, и всё это приправлено отборным матом и циничными смеху….ми. Я уже прошел школу матерщины из женских уст, к тому же мне было не до смеха. Я порядком струхнул, так как слышал, что с голодными девками в этих местах шутки плохи. Но как-то взял себя в руки и даже смог переключиться на их фальшивый, игриво-развязный тон. Короче, я удовлетворил их любопытство, сказал, что нас трое, что мы свободные художники и, по совместительству, бродячие артисты, и тут же был приглашен в их общежитие на ужин вместе с друзьями.
Саша Жевнов не очень был расположен идти к девицам. Он заметно нервничал последнее время, и я догадывался, почему: сидение и шатание без дела порядком надоело, в то время как все его мысли были там, с Надей. Какое-то время, перед тем как уехать на сплав, мы жили, как я уже говорил, с девчатами, Ларисой, Тамарой и Аннушкой, и Саша как-то не очень четко прорисовывался в поле нашего зрения. На пищекомбинате он почти все время пропадал в кабинете директора или ездил по поручению Нади экспедитором: либо за сырьем, либо сопровождая продукцию до места назначения. Мы понимали, что ситуация у него пожарная, и легко обходились без его помощи, тем более что работа не бей лежачего. Мы так же были уверены, что последнее время он жил у Нади. Тем не менее он пошел с нами.
К моему большому удивлению, девчата встретили нас радушно, как и положено рачительным и хлебосольным хозяйкам: накрыли довольно-таки приличный стол даже для этих захолустных мест. Я всё не переставал удивляться произошедшей с ними перемене: куда девался тот напускной флер, та томная вуаль, тот блатной налет, которыми они так ошарашили меня при встрече. И без мата они, оказывается, спокойно могли обходиться. Не помню, чтобы я когда-нибудь еще видел такое разительное перевоплощение. Это были общительные, не без юмора девчонки, которым был понятен, интересен и даже близок тот мир, в котором жили мы, мир наших песен, наших увлечений, образ мыслей. Были заметны и ностальгия, и грусть по желанному, но потерянному раю, по знакомому, но утраченному миру – миру, где остались друзья, родные и близкие люди. Я догадался, что та напускная бравада, с которой они встретили меня, была не столько стремлением соответствовать статусу, который им присвоили, сколько криком отчаяния. Они прибыли сюда из Москвы и Ленинграда не по своей воле, с квалификацией "девицы легкого поведения", которую не так уж и трудно было получить и которую блюстители нравственности и чистоты охотно присваивали всем, кто порочит высокое звание советского человека.
Я тогда впервые встретился с феноменом, когда непричесанных под общую гребенку граждан произвольно перемещали по просторам Великой страны. Позже, когда я узнал, что Иосифа Бродского сослали в д. Норенская Архангельской области в 1964 году с клеймом "тунеядец", я понял, что эта практика избавляться от инакомыслящих и инакоживущих была обычной в моей стране. Девчат было жалко, хотя жалости они не вызывали, старались быть веселыми и беззаботными. А там поди разбери, что творилось в их осиротевших душах, в их исстрадавшихся сердцах. Это был приятный и теплый вечер и вместе с тем один из тех редких вечеров, когда серьезно задумываешься о людях и судьбах и, конечно, о себе: что есть ты в этом сложном переплетении дорог, судеб, обстоятельств и перипетий. …Вечер тот оставил в памяти моей и организме глубокий след.
Возвращались мы в свою общагу поздним вечером. Саша, казалось, стал еще раздражительней и, проходя мимо какого-то дома, в сердцах пнул ногой калитку. "Что, мешает она тебе?!" – послышался грозный глас из темноты. "Да пошел ты!" – огрызнулся Александр. А далее, как в сказке, свистнул молодец богатырским посвистом, и, откуда ни возьмись, как из-под земли, появились молодцы и давай нас бутузить. Можно было запросто слинять, но Сашка встал, как лось, у забора, напряг все свои жилы и пошел отмахиваться. А меня сбили с ног, заехали сапогом в горло и… – не могу вздохнуть, не идет воздух через горло. Вот и всё, вот и конец, как-то спокойно подумал я. Так вот он какой – конец, так просто… И совсем не страшно… и не больно… А легкие, независимо от моей воли, совершали спазматические конвульсии. Воздуха хотят, подумал я… Кажется, прошла вечность… И вдруг – слабый, натужный, скрежещущий свист: надо же, воздух пошел, удивился я. Потом так же с большим трудом, но больше, больше, потом – жадно, но всё еще со свистом; но это был уже другой свист, и до меня стало доходить, что этот свист возвращает меня к жизни… но я также понял, что воздуха недостаточно, что надо втягивать его экономно, спокойно, и, главное, – не паниковать…
Потом я увидел Володю и Сашу, склонившихся надо мной и что-то говоривших. Я как-то дал им понять, что всё нормально, что не надо меня тормошить, поднимать, что мне надо восстановить дыхание… В то же самое время я обрадовался, и не столько тому, что стал дышать и уже не помру, а больше тому, что в критические минуты был спокоен и не поддался панике и даже спокойно наблюдал и контролировал все, что со мной происходило. Потом, по жизни, это свойство, не знаю кем в меня заложенное, не раз помогало мне в ситуациях, крайне критических. Я полностью отдавал себе отчет, что стоило мне хоть на мгновенье поддаться панике или даже сделать резкое движение, когда уже пошел воздух, – всё было бы кончено. Вместе с тем я точно знал, что кто-то помог мне, что чья-то спасительная длань была распростерта надо мной: не мог я так рационально и выверенно распорядиться крохами, отпущенными мне для возвращения. Когда свист почти прекратился, и я почувствовал, что могу двигаться без всякого ущерба организму, я осторожно поднялся и потихоньку пошел. Ребята пытались меня поддерживать, но помощь была не нужна.
На следующий день терпение Саши Жевнова лопнуло, тоска по Надежде зашкалила, и он отправился в Соликамск на первом же трамвайчике. Я тогда и представить не мог, что больше его никогда не увижу. В институте он не появился, восстанавливаться не стал. Окольными путями дошла до меня весть, что они с Надей поженились и вроде бы уехали в его родной Сарапул. Я все ждал, что в один прекрасный день он появится на пороге нашей комнаты 309, родной так же и для него, или хотя бы напишет письмо, но не произошло ни того, ни другого. И Володя Шулев тоже не имел о Саше никаких вестей. До сих пор не могу поверить, что навсегда потерял верного друга. Нет, он для меня не исчез, не канул в небытие. Сколько живу, он всегда со мной.
Но пока мы с Володей ничего фатального не ждали, и жизнь наша протекала в том же русле, в русле Камского лесосплава. Наша плутагентская рать стала пополняться: прибыли сначала москвичи из МИМО (Московский институт международных отношений) – Саша Качанов и Миша (фамилия русская, простая и потому забытая), потом упоминавшиеся уже в этих записках Йошкар-Олинцы. Москвичи на сплаве не первый раз, речные волки, работали основательно. Брали плот в одном месте (на одном участке больше одного не давали) и, договорившись с капитаном буксира и передав вместе с ним документы, отправляли его (плот вместе с капитаном). Затем так же в другом и третьем; иногда доводилось им собирать коллекцию из четырех плотов, но это – редко. Отправив все плоты, долетали до Соколок на подводных крыльях за несколько часов. Расчет строился таким образом, чтобы успеть к первому плоту, который шел до конечного пункта 20 – 25 дней. На день можно было опоздать, но если больше, поднимался кипиш, плотагента начинали разыскивать, слать телеграммы.
Делали и так: один набирал плоты, прочесывая все участки рейда и отправлял их вниз по течению, а другой в Соколках принимал. А было и такое: шли вместе с плотом, ночевали, как и положено плотагенту, на буксире, а днем, подобно купцам, открывали бойкую торговлю древесиной прямо на плоту, продавали целыми пучками. От государства не убудет, КЛС не обеднеет, а бедному студенту на водку хватит, а может, и на закуску. А если без шуток, последний, криминальный способ, давал самую большую прибыль, да и был более удобным и комфортабельным: сидишь на плоту в удобном кресле, греешься на солнышке, обозреваешь проплывающие мимо тебя красоты и, обслюнив пальцы, шуршишь длинными купюрами. И не надо с высунутым языком носиться по сплавному рейду от Вишеры до Чусовой и подбирать оставшиеся плоты. Один минус – можно сесть, со всеми вытекающими: прощай, престижный институт, дипломатическая служба, командировки – и часто весьма длительные – за границу; прощайте, друзья, родные и близкие и… здравствуй, Колыма. Когда я напоминал москвичам об этой заманчивой перспективе, Миша, не мудрствуя, ронял замыленную фразу: "Кто не рискует, тот не пьет…" при этом озарял всех и всё вокруг своей светлой, обаятельной дипломатической улыбкой.
Но и легальным способом можно было заработать за сезон от 2-х (две ходки по три плота) до 3-х и выше тысяч рублей (три ходки). А некоторые умудрялись делать по четыре ходки, если прихватывали сентябрь; к тому же конкуренции в этом месяце – практически никакой.
Пару слов о ребятах, которые остались в памяти, и отправимся в наш первый рейс на плоту по Каме-реке, по которой погуляли многие вольные люди и в особенности Ермак Тимофеевич. Чаще всего мы пересекались с йошкар-олинцами и москвичами, то есть вместе жили в общежитиях на сплавных участках в верховьях Камы, когда брали плоты, и в конечном пункте в Соколках, когда сдавали плоты ВЛС (Волжский лесосплав); реже на ГЭС, Пермской и Чайковской, где ждали, пока отшлюзуются наши плоты. Все ребята были классные, дружные, боевые, и о всех остались теплые воспоминания. Саша Качанов заезжал к нам в Казань в конце сентября того же приснопамятного года, возвращаясь со сплава в Москву, и мы даже сводили его в поход в Марийку. Наша дружба с ними продолжалась и после института, изредка мы перекидывались короткими весточками, а Саша Качанов однажды прислал мне открытку из Лондона с видом на Темзу.
Других ребят, к сожалению, не помню даже визуально. Могу только сказать, что в тот год на рейде были студенты из Харьковского авиационного – наши коллеги, из Перми, из Ленинграда и даже из Казахстана, то ли из Петропавловска, то ли из Актюбинска. Вот такая широкая география была представлена на Камском лесосплаве.
Однако пора отправляться в наше первое путешествие по Каме. Мы с Володей Шулевым решили на первых порах не гоняться за длинным рублем, а дать пищу и простор для души: пройти по красивейшей русской реке, где всё дышит историей и преданиями, прочувствовать дух этой легендарной реки, овеянной славой нашего знаменитого землепроходца Ермака Тимофеевича. Володя принял свой плот, благословил его в путь, отдав капитану все документы, и стал дожидаться меня.
На следующий день и мы отчалили. На буксире нашем, теплоходе нового поколения, с его острым носом и стремительными формами, все блистало новизной и чистотой. Чистотой на судах никого не удивишь, будь то морские суда или речные. Эту давнюю традицию мы знаем по фильмам. Чем занимаются матросы на корабле? Правильно: драят палубу. Но не только палуба содержится в идеальной чистоте. В капитанской рубке, в кубриках, в каютах и даже в гальюнах вы пылинки не найдете. А что уж говорить о камбузе, этом святая святых любого корабля и любого флота: можете обшарить все углы его (камбуза, конечно) и закоулки с идеальной белизны носовым платком – он таким же идеально белым и останется.
Я говорил уже, что плотагент – второе лицо на корабле; в конечном счете, вся Кама со всеми её судами, водоплавающим и сухопутным людом в весенне-летнюю навигацию работают на империю под названием Камский лесосплав. Капитан принял нас радушно, познакомил с личным составом (помощник капитана, боцман, механик, повар, врач и человек пять-семь матросов) и напомнил, что слово плотагента – закон для всех, а в случаях, касающихся сохранности плота, даже для капитана; показал на карте маршрут следования и пункты шлюзования, коротко ознакомил с правами и обязанностями плотагента и добавил, что о правилах внутреннего распорядка нам поведает боцман.
Боцман – огромный детина: рост – каланча, сажень – плеча, голос – иерихонская труба, выдал нам обоим постельное белье и собирался развести по разным каютам, но мы сказали, что нам достаточно одной, против чего он сильно возражать не стал, но отметил для порядка, что должностным лицам, наделенным такими высокими полномочиями, на которых даже внутренний распорядок не распространяется, полагается две каюты, а не одна. В отместку он выделил нам такую каюту, которая стоила трех. Эта каюта представляла собой равнополочную букву "Г", в двух полках которой стояли койки, разделенные перегородкой, так что мы с Володей были лишены простого человеческого счастья лицезреть друг друга, а в углу – большой стол.
На судне, кроме камбуза, располагались следующие общественно-полезные помещения: столовая, библиотека, красный уголок и бильярдная; в последней, кроме бильярдного стола, стоял теннисный стол. Совсем даже неплохо, в один голос подумали мы с Вовкой – жить можно. Обстановка на корабле семейная (разумеется, как в хорошей, дружной семье), домашняя. Экипаж небольшой, слаженный, спетый (чуть не сказал "спитый", но вовремя опомнился: на корабле – сухой закон), и мы моментально влились в него, как в свою семью, тем более что знали кучу морских песен.
А камбуз – пуп корабля и центр притяжения всех членов экипажа – это вообще отдельная песня. Наш корабельный повар будто специально поставил задачу не повторять блюд и явить нам свое редкое кулинарное искусство, которую с каждым днем решал всё сытнее, разнообразнее и обильнее. Одно плохо: наши маленькие желудки студентов-плотагентов никак не хотели вмещать огромные порции четырех-пяти блюд, а применить известный способ очищения желудка, учрежденный и используемый римскими патрициями, не решались, боясь обидеть хлебосольного повара. Вот такая дилемма: и съесть не можешь, и оставлять нельзя. Пришлось тренировать желудки, ведь за питание мы не платили ни копейки. Всё щедрый КЛС брал на себя.
В обязанности мои как плотагента (плот всё же был мой, а Володя довольствовался званием "Почетного гостя") входило всего-навсего вечером зажечь на плоту габаритные фонари, а утром – погасить. Для этого мне выделялась большая шлюпка с мотором, которую опускала и поднимала специальная лебедка на электроприводе: нажал на кнопку – и шлюпка вознеслась, нажал на другую – пала на воду. Но поскольку я не мог обращаться с мотором, боцман отнял у меня и этот последний хлеб, не дав себе труд пройти со мной ликбез: "Зачем тебе это нужно? Отдыхай, пока я живой". Так этот верзила лишил меня уникальной возможности раз и навсегда разобраться с лодочными моторами. “А каков результат?” – спросите вы. А таков, что я, около полувека прожив на Волге и имея две лодки, до сих пор не решаюсь повесить на них моторы, ибо не могу запускать их, а если с перепугу и запущу, то не сумею остановить.
Конечно, я если и расстроился, то не очень и, уж во всяком случае, рыдать не стал: на корабле было чем заняться. Мы либо загорали на палубе, устроившись в удобном шезлонге и для солидности держа в руках книгу (иногда вверх ногами), либо играли в бильярд, в котором я кое-что понимал, или в настольный теннис, в котором понимал значительно меньше.
За этими нехитрыми занятиями прошло несколько дней, и мы неожиданно увидели впереди по течению огни большого города. Этим городом оказался старинный русский город Пермь с Кремлем и со старым городом-крепостью, обнесенной кремлевской стеной. Здесь предстояло нам пройти шлюзование, то есть опуститься с высокого уровня Камы на низкий. Для этого плот расчленялся на четыре секции-шлюзуемые, и каждая проходила через шлюз-камеру. За плотиной эти секции снова соединялись, и плот шел дальше до Чайковской ГЭС. Процедура шлюзования не очень сложная и занимала несколько часов, но перед плотиной скапливались десятки плотов и приходилось ждать очереди в обширных разливах Камы два, три, а то и четыре дня. А мы в это время купались и загорали на великолепных, изобилующих элементами комфорта и развлечений пляжах, били баклуши в общаге для плотагентов. Надо сказать, что в таких общежитиях на ГЭС скучно не бывает, ибо здесь собирается веселая братия плутагентов всех студенческих стран и континентов и без конца и края льются песни и разговоры.
Разумеется, мы не упустили возможности познакомиться с древним городом, с его богатой историей, с знаменитыми промыслами и с знаменитыми промышленниками, умножившими славу и величие нашей Родины. Я обратил внимание, что по планировке старого города, по его архитектуре, по устройству Кремля и крепостной стены между Пермью и Казанью много общего.
Не укрылось от нашего взыскательного взора и то волнующее обстоятельство, что в Перми больше красивых девушек, чем в Казани. Правда, это взгляд изголодавшихся по женскому обществу морских волков (на корабле нашем даже врач – мужчина) и поэтому вряд ли может претендовать на объективность. Зато мы приобрели опыт личного общения с представителями красивейшей половины человечества, а именно: провели незабываемый вечер в обществе несравненных и несравнимых студенток Пермского госуниверситета.
Очень жалко было расставаться с гостеприимным и красивым городом, но служба есть служба. И мы с Володей вновь погрузились в домашнюю атмосферу нашего корабля и его дружного экипажа.
…А мимо неспешно плыли небольшие старинные города и поселки, плыли резные деревянные дома, плыли окутанные белым дымом цветущие сады, плыли белые, темные, зеленые, голубые, золотые купола церквей, плыла, казалось, сама история русской православной патриархальной жизни. И чувствовалось, что в этих городах и поселках, многие из которых основал и которым дал имя сам Ермак Тимофеевич, так же неспешно течет привычная жизнь, как она протекала и сто, и двести, и триста лет назад. Иногда бесконечные камские просторы оглашал звон колоколов, навевающий почему-то тревогу и беспокойство; и долго еще разносил эфир по всей земле густые резонирующие звуки; и в них тоже чувствовалось дыхание прежней жизни; и сокрыты были в этих звуках многие тайны русской истории, многие судьбы русских людей; и несли, и разглашали колокола эти тайны по всей Руси… – да вот разгадать их никто не мог. А иногда с берега доносилось стройное пение, и в нем тоже звучали отголоски русской патриархальной жизни. И так остро захотелось мне прикоснуться к этой жизни, такая щемящая тоска навалилась на меня, что проходящий мимо боцман спросил: "Что не весел?" – "Да вот, – кивнул я на берег, – жизнь проходит и всё мимо". Боцман ничего не ответил, но было видно, что он сочувствует мне.
"И плыли б навстречу мне по берегам
Достаточно просто
Деревни, деревни, луга и стога,
Кресты на погостах.
И плыли бы звуки, родные до слез
Над гладью стекольной:
И стрёкот стрекоз, и дыхание гроз,
И звон колокольный".
Эти две строфы песни ленинградского автора Александра Тимофеева как нельзя лучше передают патриархальную картину камских берегов.
На следующий день после завтрака боцман сказал коротко: "Десантируемся на берег. На сборы десять минут". И сердце запрыгало в грудной клетке, как у птенчика, вынутого из гнезда. Всё вокруг казалось приподнятым, преображенным, торжественным. Торжественно спустили шлюпку на воду, торжественно спустились с борта на борт, торжественно запел мотор в умелых, уверенных руках боцмана, как скрипка в руках скрипача. Маэстро лихо, с полуразворотом причалил к плоту, я так же лихо выскочил на плот и погасил фонари, и мы помчались к берегу, держа нос лодки, как стрелку компаса, прямо на стоящую у самого берега церквушку. Церковь была деревянная и очень красивая: с резными маковками куполов, с резным крыльцом у паперти.
Мы зашли в небольшое деревянное строеньице рядом с церковью, над входом в которое красовалась вывеска "Чайная" и из которой лилось красивое, слаженное пение. В крохотном помещении, разделенном надвое прилавком, мы увидели довольно странную компанию, стоящую за столиком, и которая и являлась источником чудного многоголосья. Пели, собственно, трое: крупная полная женщина, таких же габаритов мужчина, только в мужском исполнении с коэффициентом приблизительно 1,3 и маленький щупленький мужичок с куцей, узенькой, но довольно длинной бородкой и в черном монашеском одеянии (мне захотелось назвать его дьячком). Остальные трое или четверо иногда подпевали, а чаще просто слушали.
Наш боцман поздоровался с продавщицей за прилавком как со старой знакомой, перекинулся с ней по-свойски парой фраз и заказал три больших граненых стакана "чаю", то бишь вина на разлив. Мы взяли стаканы с вином, которое, кстати, оказалось необычайно вкусным, подошли к соседнему столику и стали слушать. Крупный мужчина пел раскатистым низким голосом (стаканы с "чаем" на столе подпрыгивали), которому, наверное, мог бы позавидовать сам Шаляпин. Дьячок, напротив, – очень высоким, близким к контртенору. А женщина – низким женским, наверное, альтом. Мне показалось, что я никогда не слышал такого красивого, захватывающего, задевающего самые тонкие душевные струны пения, – так профессионально слаженно, как оркестр, звучал их ансамбль. Но удивительным был не столько их профессионализм (теперь-то я прекрасно понимаю, что так могли петь только певчие церковного хора, коими они, без сомнения, и являлись), сколько то обстоятельство, что пели они в свое удовольствие и получали от пения огромное наслаждение. Это было видно по их спокойным вдохновенным лицам. Исполняли они распевные фольклорные и духовные произведения и русские народные песни, по большей части мне незнакомые. Если песня была мне знакома, я осторожно вплетался в их трезвучие своим робким вторым голосом, которого как раз им не хватало. В остальных произведениях подключался, если были повторы. Они поддерживали меня приветливыми, одобряющими взглядами, и я улетал на седьмое небо… и выше. И вряд ли нашлась бы такая сила, которая смогла бы меня оттуда достать. Но я же говорил вам, что боцман был ростом с пожарную вышку, он шепнул мне на ухо, что у нас на сегодня большая программа, и мы, распрощавшись с профессиональными певцами и с любителями чая, побежали к своей шлюпке.



