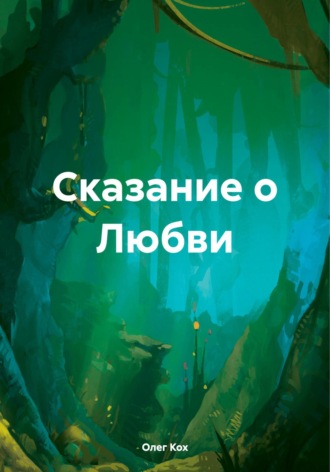
Полная версия
Сказание о Любви
Поздно вечером, когда все разошлись, сытые, изрядно выпившие и довольные собой и жизнью, дядя Саша тихо позвал меня в большую комнату, где уже спали Степа с Юрой, достал из какого-то потайного кармана небольшой, завернутый в газету и аккуратно перевязанный пакет, развернул его и положил на стол. "Письма от жены", – дрогнувшим голосом сказал он. Потом достал из одного конверта вчетверо сложенный листок, распахнул его передо мной и, виновато глядя на меня, попросил: "Пожалуйста, прочти…" – "Чужое письмо…" – попытался я возразить. "Я никому не показывал… Прошу тебя, прочти". Я почувствовал, что ему тяжело одному нести свою ношу, что ему необходимо поделиться с кем-то, что для него это очень важно, и стал читать.
Это было письмо тонкого, интеллигентного человека и глубоко и нежно любящей женщины, преданной жены, стойко ждущей мужа сначала с войны, а потом из лагерей, и заботливой матери, вырастившей в блокадном Ленинграде сына и дочку, для него, любимого, вырастившей. Ради него она покинула родной Ленинград и поселилась где-то в средней полосе, потому что ему запрещено было жить после освобождения в крупных городах. Она ждала его, и звала его. В письме именно и содержалась мольба вернуться в лоно семьи. И ни слова не то что упрека, но даже намека на жалобу. А ведь нетрудно представить, что пришлось пережить и перестрадать этой женщине, жене преступника и убийцы.
Дядя Саша рассказал мне, что он откликнулся на этот её зов и приехал в небольшой городишко, где она с детьми свила новое гнездо. Как трогательно и нежно они заботились о нем и как прилагали все силы, чтобы он поскорее привык к давно забытой, необычной для него жизни. Он был сильный человек, лагеря не сломали его, – это даже мы, зеленые, не нюхавшие пороху, сразу почувствовали.
Я думаю, что он и выжил и выстоял только потому, что у него не было выбора, как вести себя в этом совершенно чуждом для него мире. Гордый, прямой, бескомпромиссный человек, кадровый офицер, прошедший огонь и воду и медные трубы, он не мог и не хотел приспосабливаться, а тем более прятаться в кусты. Ему, вчерашнему смертнику, терять было нечего. Он никогда не был шкурником и трусом и сразу пошел ва-банк: либо они меня, либо я их. Можно только гадать, какой концентрации и напряжения всех сил, и прежде всего нравственных и интеллектуальных, потребовало это неравное противостояние.
Поэтому к жене вернулся совсем другой человек, нежели тот, которого знала она много лет назад. Он думал и надеялся, что не столько трудно будет войти в русло новой, послевоенной и послетюремной жизни, сколько проложить, наладить русло между двумя сердцами, одно из которых зачерствело, заскорузло, закаменело из-за постоянной необходимости вести жестокий поединок в жестоком мире. Сердце стало жестким, но не ожесточенным, сдержанным, но не трусливым, а значит, не потеряло способности любить, и я это прекрасно видел.
Опасность подстерегала его совсем не там, где он ожидал встретиться с нею. Не так уж глупы и весьма изобретательны были наши органы, когда в их головы пришла гениальная мысль поселить отбывших заключение именно в небольших населенных пунктах, в этих мещанских клоаках, где все у всех на виду, где по привычке (шли шестидесятые годы) многие проявляют бдительность и следят друг за дружкой, – авось пригодится выслужиться. А особо рьяные и сознательные состояли на довольствии у органов, и тут уж хочешь не хочешь, а подавай компромат, хоть из пальца высоси. Для последних такие, как дядя Саша, – просто находка. Высокий, красивый, породистый, независимый, не привыкший гнуть спину ни перед кем, он резко выделялся среди мелких и мелочных обывателей этого захолустного городка и был для них, словно кость в горле. Да к тому же – убийца! Нет, от такого надо избавляться, и чем быстрее, тем лучше. Вот в такую обстановку и попал дядя Саша. Плюс на работу не устроишься (у него, кадрового военного, никакой другой специальности), даже на неквалифицированную. В таких обстоятельствах выбор небогат: либо тебя в таком населенном пункте сживут со свету, либо выбирай такое место, где сплошь одни зеки и стучать вроде не на кого.
Но даже и не это главное. До его появления к жене относились как к обычному, нормальному человеку, а потом отношение резко изменилось: на неё стали коситься, перестали разговаривать – она как бы оказалась вне закона. Вот этого он вынести не мог. Он понял, что навлек на любимого человека несчастья, что не сможет сделать её счастливой, что жить им спокойно не дадут и принял решение вернуться в места, для него привычные. Он настоял, чтобы она либо вернулась в Ленинград, либо уехала в другой город. Он показал мне еще несколько писем от нее и прядь ее волос, которые хранил в конверте. Я понял, что эти письма и эти волосы – все, чем он живет, и все, что у него осталось.
Письма жены и те скупые, отрывочные сведения, что дядя Саша мне приоткрыл (многое я дофантазировал), не сняли завесу с его жизни, а напротив, покрыли её еще большей тайной, оставили массу невыясненных вопросов. Пользуясь доверительными отношениями, сложившимися между нами, и понимая, что другого случая не будет, я попросил дядю Сашу рассказать о себе. Вот что он мне поведал.
Он, потомственный ленинградец, вырос в семье крупного партийного работника. Отец, имея неограниченные возможности, не пристроил сына в теплом месте, а в преддверии войны определил для него достойное место защитника Родины и направил в военное училище. В начале войны, когда он в звании капитана командовал ротой, к ним в часть прибыл прямо из академии военный советник в звании майора, человек самоуверенный, заносчивый, невежественный в военном деле, но со связями, ни за что не отвечающий, но наделенный большими полномочиями. Не обладая опытом, не владея обстановкой, склонный к теоретизированию, сей великий полководец разработал для батальона план наступательной операции (не зря же протирал штаны в академии). Комбат, имея такое же воинское звание, возразил высокопоставленному советнику, но настаивать не посмел, а комроты дядя Саша высказался категорически против "гениального" плана. Ему пригрозили трибуналом. В итоге батальон был окружен и почти целиком уничтожен. Дядя Саша вышел из окружения с горсткой бойцов и в присутствии комсостава пристрелил виновника гибели стольких людей. К счастью (или к несчастью – с какой колокольни посмотреть), новоявленного полководца удалось спасти, и дядя Саша, вместо вышки, был разжалован в рядовые и получил назначение в штрафбат.
Известно, что в штрафниках долго не ходят, но дядя Саша был, как заговоренный: ни пуля, ни штык не брали его. Он вопреки правилам, когда за один удачный бой штрафника могли перевести в обычные войска, так и остался в этом исключительном статусе (думаю, не без содействия упомянутого советника) и войну закончил, как и начал, командиром роты, но только штрафной. Поэтому с уголовным миром (основной контингент штрафников) дядя Саша познакомился задолго до своего заключения. Уверен, что это в том числе помогло ему выжить в лагерях, так как паханом он стал именно на войне, командуя штрафной ротой. Попробуй совладай с отпетыми – с волками жить по-волчьи выть. Но также ясно, что одними волевыми качествами и даже человеческими этот народ не возьмешь: на войне, по сравнению с лагерями, стократ больше возможностей выстрелить в спину бегущего впереди командира. Думаю, что руководили этим народом не сентиментальные чувства, часто свойственные им, а сугубо прагматические: понимали, видно, что кроме этого командира, никто не сбережет их драгоценные жизни.
После войны дядя Саша случайно встретился с "знаменитым полководцем" в Москве лицом к лицу и не раздумывая разрядил в него свой пистолет. В результате получил вышку, которую не успели привести в исполнение, так как смертная казнь была отменена. Вместо вышки, дядя Саша загремел на 25 лет в лагерь строгого режима. В 53 году по случаю кончины безвременно усопшего великого кормчего и последовавшей вслед за ней великой амнистии, дяде Саше скостили срок. Насколько скостили и когда вышел на волю, он не сказал, а спрашивать было неловко. Можно было сопоставить по датам в письмах жены, но письма были прочитаны раньше рассказа, и посмотреть я не догадался. Думаю, что в начале 60-х. В самом начале рассказа о дяде Саше я назвал его стариком – так я воспринял этого человека. А ведь ему было тогда не больше 50-ти, и он был крепок телом и духом, так что стариком его уж никак нельзя было назвать.
Несколько дней мы жили одной семьей. Дядя Саша утром уходил, а вечером мы собирались за семейным столом, умеренно выпивали и пели песни, и души наши звучали в унисон. Не много было в моей жизни таких близких людей, как дядя Саша. Надеюсь, что и он оттаял душой в нашей честной компании. Я заметил, что он мало пил, а ел еще меньше, и что вообще он был аскет. Я не видел у него ни одной татуировки, не слышал ни одного слова мата, он не говорил на фене – он спокойно обходился без этих языков уголовного мира, хотя наверняка знал их в совершенстве.
…Он исчез также внезапно, как и появился. И возник ниоткуда, и исчез в никуда. Просто однажды ушел, и больше мы его не видели. Для меня это была большая потеря, будто отца потерял. Помню, была такая безысходная тоска, такая пустота образовалась внутри и снаружи. Почему он ушел? Почему он не хотел (а может, не мог?) жить такой жизнью? Ведь видно же было, что ему хорошо с нами. Думаю, потому же, почему не смог жить в лоне семьи. Я не знаю, чем он занимался, чем он жил. Догадываюсь, что он не работал, в обычном смысле этого слова. Но также не могу представить, чтобы он воровал и тем более грабил и убивал.
Он жил в преступном мире, хорошо знал и понимал его жесткие законы. Он не отделял себя от этого мира, не презирал его и не смотрел на него свысока. Этот незаконный мир больше подходил для него, нежели законный официозный. И не потому, что он к нему привык и был в нем своим, не потому, что имел власть над ним, не потому, что в этом мире принято было существовать – и существовать шикарно – за счет мира-антипода и неограниченно пользоваться продуктами его и благами. К материальным вещам он был равнодушен, не его это ценности и приоритеты. А потому, главным образом, что он был в этом мире более свободен, потому что не нужно было жить двойной жизнью, фальшивить, лебезить, заискивать, чтобы построить карьеру и добиться званий и наград, зачастую карабкаясь по трупам сослуживцев. Потому, наконец, что в этом мире можно было жить, оставаясь человеком, не теряя человеческого достоинства. Нет, он не идеализировал этот простой, незамысловатый, но все же беспощадный, бескомпромиссный преступный мир. И уж, конечно, понимал, что хоть этот мир стар и древен, как сама Вселенная, он не созидателен и суть – злокачественная опухоль на теле Цивилизации.
Он знал, не мог не знать, что другой мир, где остались родные и близкие ему люди, более сложен, разнообразен и неоднозначен. Что хоть он и может быть беспощаднее, циничнее и безжалостнее, чем уголовный мир, не всё в нем – фальшь и лицемерие, не всё – подлость и низость, не всё – трусость и пресмыкательство, не всё – ничтожество и уродство, не всё – беспросветная тьма. Что есть в нем: честь и достоинство, благородство и великодушие, смелость и отвага, свет и красота, сострадание и жертвенность, что есть в нем созидательные силы, есть живительные источники и, главное, есть надежда и уверенность, что именно благодаря этим силам, этим неиссякаемым источникам, мир постоянно преображается и движется вперед, становится красивее и светлее, богаче и духовнее. Всё это дядя Саша прекрасно знал, ибо сам вырос в такой созидательной среде и сам был носителем нетленных ценностей. Знал также, что его место именно там, в это мире, что там нужны такие люди, как он, не умеющие отсиживаться в кустах. Но, очевидно, бывают обстоятельства, сильнее даже самых сильных представителей вида homo sapiens, и не он определил выбор между двумя мирами: созидательным и разрушительным. Потому, наверное, и ушел дядя Саша от нас, что вновь прикоснулся к простому, нормальному миру, такому же, как мир его родителей, в котором вырос, возмужал и приобрел чувство Родины и чувство долга перед ней, как мир своей семьи, где узнал, что такое любовь и верность. Потому, что ощутил давно забытое теплое дыхание этих миров, а вместе с ним и острую боль от безысходности, предопределенности, невозможности вновь обрести то, что потерял не по своей воле.
Мы все как бы осиротели, чего-то нам всем не хватало. Юра со Степой опять стали принимать наркотики и чифирить (чифир – крепко заваренный, полпачки на кружку, чай). И если Степка был начинающим, спокойным наркоманом, то Юра был агрессивным и даже буйным: уколется, схватит нож и кричит, нагоняя ужас прежде всего на себя: "Зарре-ежу!!!" Все на всякий случай уходили из поля его зрения, а я как-то встал перед ним и спрашиваю: "Юра! И меня зарежешь?!" Он поднял невменяемую голову, уставил на меня свои чумные глаза, и сказал решительно: "Нет! Тебя не зарежу! А остальных всех зарежу!"
Тем не менее, наш колпит (коллективное питание) работал, как при дяде Саше, мы по-прежнему ужинали вместе, правда, не так душевно и не так сытно. Я время от времени возвращался к откровениям дяди Саши, прокручивал наш разговор тет-а-тет, вспоминал дни и часы, проведенные вместе с этим необычным, но родным человеком, постоянно вынашивал мысль все это описать, такое неизгладимое впечатление оказали на меня события, связанные с ним, такой глубокий след они во мне оставили, так они меня тронули! В течение жизни я часто возвращался к этой мысли и вот по прошествии более полувека, я наконец пишу эти строки. Конечно, утрачены свежесть, острота, какие-то детали, но главное, вплоть до слов и интонаций, помню отчетливо и волнение испытываю то же самое, что и тогда, в те далекие годы. Может потому, что часто рассказывал об этих событиях сначала друзьям, а потом жене и детям.
У нас троих кончились деньги, а пурга все не утихала. Последние дни мы вообще питались из магазина "Уцененные продукты". Приходилось ли вам встречать нечто, подобное таким вывескам? Мы покупали буквально за гроши замученную мороженую рыбу и ржавую селедку. Из мороженой рыбы варили суп, а селедку ели с макаронами, которые приносил Степка с пищекомбината, где он работал грузчиком. Степка и нам предлагал устроиться грузчиками. Говорил, что тамошней продукцией можно питаться, сколько влезет, но домой брать не дают, на проходной шмонают и, если попадешься, попрут с работы. Соблазн был большой, но мы все надеялись выехать на лесозаготовки за длинным рублем. Юра, когда был в состоянии, куда-то исчезал, но весь его промысел был направлен на то, чтобы добыть наркотики. Как и чем он промышлял, он не говорил, а мы не спрашивали. Так что подкармливал нас только Степка, самый зеленый из нас, совсем еще пацан. Стыдно об этом говорить, а что делать.
Наконец мы сдались и пошли наниматься в грузчики на Соликамский пищекомбинат. Приняли нас если и не с распростертыми объятиями, то вполне радушно и без особых формальностей. Директор комбината, довольно молодая и слишком симпатичная (чтобы не сказать, красивая и обаятельная) для должности директора особа, посмотрела наши паспорта, выдала спецодежду и, одарив нас иронической и вместе с тем чарующей улыбкой, пожелала всяческих успехов на новом поприще. И началась наша сладкая, в самом прямом и буквальном, а также не в прямом, а переносном смысле жизнь. Чуть позже вы все поймете.
А пока – непосредственно о древнейшей и почетнейшей из всех существующих профессий, требующей отменного здоровья, великолепной физической подготовки, недюжинного нравственного и интеллектуального потенциала, – профессии грузчика. Нам предстояло: а) обеспечивать пустой тарой (деревянными ящиками) различные цеха; б) переносить (перевозить) готовую продукцию на склад или под загрузку на грузовые автомобили к специальному окну; в) грузить означенную продукцию на упомянутые автомобили для отправки в магазины, в пункты общественного питания, в детские сады и прочим потребителям; г) сгружать сырье с грузовых автомобилей и спускать его по деревянному желобу через специальное окно внутрь пищекомбината; д) доставлять сырье в различные цеха; е) осуществлять прочие переносно-погрузочно-разгрузочные работы, не предусмотренные изложенным выше перечнем.
Теперь поясню, почему сладкая жизнь. В буквальном смысле потому, что сладкая продукция: печенье, пряники, конфеты и лимонады. Другая, не столь сладкая, но не менее полезная пищевая продукция: макароны и вермишели. В переносном смысле потому, что работники комбината – сплошь молоденькие симпатичные девчонки. Север вообще славится красивыми девчатами.
Особого внимания заслуживает сырье, по разнообразию и пригодности для непосредственного употребления в пищу превосходящее собственно продукцию комбината. Вот его ассортимент: мед, сгущенка, сахар, мука, яичный порошок, орехи (арахис и фундук), кофе, какао, подсолнечное масло, сливочное масло, маргарин, спирт, концентрированные эссенции для производства лимонадов (лимонная, апельсиновая и пр.), как и спирт, 96%. Ну что вам еще нужно для полноценной сытной жизни? Вопрос с питанием нас больше не волновал. Питались мы только на комбинате. Из яичного порошка готовили великолепную яичницу. Девчата принесли из дома картошку и лук, и мы варили вкуснейший картофельно-макаронный суп, заправленный поджаренным на сливочном масле луком. О сладкой составляющей наших трапез я вообще молчу, ибо нет слов, чтобы описать этот медово-сгущенковый, прянико-печенный, орехово-конфетный рай, и что он значил именно для меня, сладкоежки, для человека, который всю жизнь и по сию пору ложками ест сахар, а конфеты, пряники и печенье уничтожает килограммами. Дома по вечерам мы пили чай с комбинатскими сладостями, которые понемногу открыто проносили через проходную. Так что Степа слишком близко к сердцу принял обещанные ему санкции. Кое-что прихватывали и для Юры (макароны, яичный порошок, маргарин), но не в коня корм (вот если бы наркотики!): он почти ничего не ел, видно, боялся потерять свою юркую, худосочную форму. Выданный нам аванс мы тратили только на сигареты и чай. Но на чифир Юре не давали.
Однако вернемся на пищекомбинат. Кто же были наши коллеги по профессии? А что тут говорить! Кроме нас четверых, этой позарез необходимой обществу профессией обладал Вовка Ряпосов (остальных, случайных алкашей Надя, так звали директора, отшила) – молоденький парнишка 17-ти лет, но уже познавший некоторые стороны жизни взрослого человека. Он был сирота, родители его умерли и оставили им с сестрой большой бревенчатый дом-пятистенок. На севере вообще дома строят большие, основательные и хорошо отапливаемые. Сестра жила в городке Боровске, километрах в семи от Соликамска, и работала там учительницей в школе. А Вовка был полноправным хозяином в доме и жил регулярной половой жизнью с нерегулярными девушками (язык не поворачивается сказать – партнершами). Старшая сестра не только знала, но и приветствовала и поддерживала брата в этом. Она сама привела к нему, необстрелянному юнцу, девушку, кажется, свою подружку. Наверно, считала, что Володя так быстрее повзрослеет и станет самостоятельным. Но связывать себя с кем-то прочными узами перед армией она ему не позволяла и, наверно, была права – настоящий педагог. А вообще Вовка был славный малый. Небольшого роста, очень живой, подвижный, смышленый, отзывчивый, с легким сердцем, но не легкомысленный, непосредственный, но не наивный, не жмот, но не по годам практичный, он легко завоевывал симпатии, и не только представительниц лучшей половины. Вскоре мы покинули Дом колхозника, который так сильно залег в наши сердца, и, по настоятельным уговорам Володи Ряпосова, вместе со Степкой перебрались в его большой и теплый дом.
Вовку регулярно навещала заботливая сестра: боялась, видно, упустить его из виду и потому постоянно держала руку на Володином пульсе. Неожиданно застав в доме незваных гостей, да еще и постояльцев, да так много, она не растерялась, познакомилась с нами, и через некоторое время мы уже были своими, и, следовательно, на нас распространилось ее покровительство.
Она пригласила нас к себе на квартиру, где жила со своей подругой, молодой учительницей, на что мы с Володей Шулевым с удовольствием откликнулись. Саша отказался, так как его флюгер настойчиво смотрел в сторону комбинатского начальства. Уютная трехкомнатная квартира-общежитие встретила нас весьма приветливо и радушно, по-домашнему. Было приятно и непринужденно: пили вино, пели песни. После вечеринки, заметив, что мы с её подругой симпатизируем друг другу, Вовкина сестра отправила нас в одну комнату, а сама ушла с моим другом в другую. Вот те раз, подумал я. И поскольку не был готов к высоким отношениям, всю ночь занимал свою зазнобу высокими материями. Володя навещал девушек еще несколько раз, а мне почему-то стыдно было показаться им на глаза.
Теперь о Степане. Мы хоть и терлись с ним бок о бок в течение продолжительного времени, но по существу ничего не знали о нем. Он был на год старше Вовки Ряпосова и гораздо выше ростом, но по сравнению с ним теленок, которого только что оторвали от соска матери. Какой-то несобранный и, я бы сказал, растерянный и не уверенный в себе. В остальном он был удивительно похож на Володю Ряпосова, даже внешне. Я решил расспросить его, кто он, откуда и почему оказался здесь: что-то подсказывало мне, что тут что-то не так. Вот его рассказ. Родом он из украинского села то ли Харьковской, то ли Донецкой области. Только что получив права, он отправился чуть ли не в свой первый рейс на грузовике с прицепом. На перекрестке в чистом поле между его машиной и прицепом влетел мотоциклист и – насмерть. Степка перепугался, бросил машину, мотоциклиста и бегом домой. Родители в панике, что нагрянет милиция, отвезли сыночка на станцию, посадили на поезд и отправили куда подальше. Так он оказался в Соликамске и поселился в известном уже читателю Доме колхозника.
Вскоре от родителей пришло письмо, что он получил срок "условно", что мотоциклист был пьян… и чтобы Степан поскорее возвращался домой. Но сначала у него не было денег, а потом он все сильнее и глубже погружался в психологическую яму, откуда не так-то просто выбраться. Небольшие деньги, которые он зарабатывал, уходили на наркотики, но мы понимали, что дело не только и не столько в деньгах… Кажется, его еще не успели прибрать к рукам урки, которых в этих местах пруд пруди. Родителям он писал, что пока приехать не может, так как здесь хорошие заработки, но обещал, что как только заработает более или менее прилично, сразу приедет домой. Закончил свой рассказ Степа со слезами на глазах, ибо, будучи человеком слабохарактерным, потерял всякую надежду вернуться к нормальной человеческой жизни.
Видно, он сильно любил и уважал родителей, так как сокрушался: ну как я покажусь им на глаза в таком виде! Мы сразу сказали, что поможем ему, но что все зависит от него самого. Приодеться (на нем давно уже были обноски) и собрать деньги на дорогу не проблема, главное, избавиться от зависимости. Насчет наркотиков мы взяли над ним шефство еще при дяде Саше. Его ломало, и он несколько раз принимал дозу, но в доме Ряпосова (особенно после того, как мы узнали его историю) держался: мы постоянно напоминали, что его ждут родители. Видать, он не успел еще сильно втянуться в это дело, так как вскоре смог обходиться без этой заразы без видимых мучений.
Забегая вперед, скажу, что в мае месяце, когда пришла пора подаваться нам на сплав, мы провожали его домой уже другим человеком, уверенным в себе, прилично одетым, веселым и счастливым. На прощанье я подарил ему свои часы, чему он был чрезвычайно рад, так как хотел иметь какую-либо вещь, связывающую нас. Позже, в Казани, я получил от него письмо, где он горячо благодарил нас от себя и от родителей за то, что помогли ему выбраться из той ситуации, в которой он оказался. Помню, я был очень тронут и очень счастлив: далеко не всегда жизнь подсовывает возможность оказать действенную помощь.
Что-то мы давно не были на комбинате. А там все более жизнь приобретала бурный характер. Мы как-то сразу оказались в центре внимания. Шатались по всем цехам и по долгу службы и просто так, и каждый раз нас с головы до ног окатывало свежей, чистой волной девичьих улыбок, теплом девичьих сердец. Мы не оставались в долгу и платили девчатам той же монетой, перекидывались шутками-прибаутками. У нас вообще было такое ощущение, что мы попали в цветник, в оазис. Вот пишу и боюсь, чтобы не усмотрели в моих словах даже намека на пошлость. Но в силу бедности лексикона, не могу подобрать других слов. Нет, действительно, Соликамский пищекомбинат представлял собой оазис среди пустыни. И уж, конечно, не потому, что мы там появились. Он был оазисом и до нас и являл собой дружный рабочий коллектив, где мы ни разу не слышали не то что ругани, но даже грубого слова. Уверен, что такую сердечную обстановку в этом молодом, преимущественно девичьем коллективе (кроме нас, грузчиков, были, конечно, и другие мужчины: механики, слесари и др.) создала за два-три года Надя – директор этого предприятия, выпускница Пермского сельскохозяйственного института. Я видел (довелось присутствовать), как она спокойно и уверенно проводит планерки, как доброжелательно беседует с людьми, видел и чувствовал, как уважают ее руководящий состав и рядовые работники. А мы только внесли в этот коллектив некоторое оживление, некую живую струю. Организовали, например, художественную самодеятельность и стали готовить концерт к 1 Мая. Устраивали вечеринки либо в доме Володи Ряпосова, либо на дому у кого-нибудь из девчат. И дурачились, конечно, от избытка чувств.



