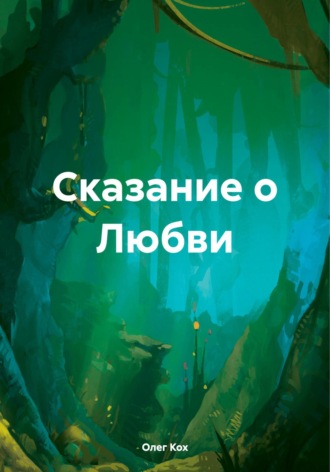
Полная версия
Сказание о Любви
Мы высадились на берег в следующем поселке и без предупреждения нагрянули к какому-то боцмановскому корешу. Вопреки моим ожиданиям, кореш не растерялся, а напротив, сильно обрадовался, и через пятнадцать минут стол был накрыт, как скатерть-самобранка. Помню, что было непринужденно и весело. Не скажу, сколько мы культурно отдыхали у хлебосольного кореша, но к шлюпке мы уже не бежали, а шли покачивающейся, как и положено морякам, походкой. Жизнь была прекрасна и удивительна. Мы резво шли за склоняющимся к горизонту солнышком, рассекая разгоряченными лицами воздух, как наша шлюпка речную волну, и, как нам с Володей казалось, вдогонку нашему плоту. Но мы жестоко просчитались. Мы не знали и не могли знать, что кореша у нашего боцмана были равномерно распределены по всем камским населенным пунктам, из расчета: как минимум один в каждом. Так и оказалось: на подходе к следующему поселению боцман резко взял вправо к берегу, и мы не успели опомниться, как опять обнаружили себя восседающими за очередным хлебосольным столом.
К шлюпке мы приползли уже в густых сумерках, а ведь это были чуть ли не самые длинные дни лета. Смутно помню, как Володя невозмутимо, как ни в чем не бывало сидел на носу шлюпки, а боцман бесконечно дергал на корме пускач несговорчивого мотора. Но новенький безотказный мотор, видно, не переносил паров винно-водочного перегара и никак не хотел заводиться. "Не дыши на него, отвернись!" – как мог, старался я помочь мотористу. "Я пробовал – бесполезно! Дыши, не дыши, а придется сесть на весла!" – констатировал боцман. Огромная корабельная шлюпка – это не легкая рыбацкая лодка, ее веслами не сильно разгонишь, даже если у нее на вооружении две пары весел. А куда деваться, плыть-то надо, пора зажигать габаритные фонари: налетит на плот "Ракета" или "Метеор" – беды не оберешься. На весла сели боцман и Володя, мне не доверили, на что я сильно обиделся и перестал с ними разговаривать. Тем более – не очень-то и мог.
На задворках памяти осталось, что уже в полной темноте нас взял на абордаж какой-то катер, меня, как мешок, перетащили куда-то в утробу катера, уложили на нары, и я моментально вырубился. Из мертвецкого сна меня удалось вытащить только нашатырём и то не с первого раза. Но окончательно в чувство меня привел жуткий озноб и барабанная дробь челюстей – буквально зуб на зуб не попадал – и сопровождалась она каким-то диким, нечеловеческим гудом, исходящим из моего нутра. Не помню, как перекочевал с катера в шлюпку, но, когда шлюпка, как мне показалось, подошла к плоту, я, стоя на её носу, прыгнул и уже в полете с ужасом обнаружил под собой темную бездну речной воды, а впереди, в нескольких метрах, недосягаемый край плота. Не успев толком всё это осознать, я провалился в холодную воду и увидел, как от моих вибрирующих челюстей распространяются волновые колебания. Как ни странно, дрожь моментально прошла, я вынырнул и поплыл к плоту. Пока я, прыгая по бревнам, бегал от фонаря к фонарю (напомню, длина плота 480 м, ширина 60), одежда высохнуть не успела, но согрелся я так, что было жарко.
Рано утром боцман принес мне банку огуречного рассола, к которой я приложился, как к роднику в пустыне. Заботливый боцман спросил: "Ну как?" Я показал большой палец и выдохнул: "Классически! Эту экскурсию я никогда не забуду!" И, как свидетельствует описание наших похождений, слово свое сдержал.
Как-то утром боцман зашел ко мне в каюту (я еще спал) и говорит: "Шеф, туристы просятся на плот”. Он объяснил мне, что это обычное дело, что противопожарную безопасность они гарантируют, и добавил, что нужна моя санкция. Я в чрезвычайно возбужденном состоянии: "Ну как я могу быть против! Я только за! Это же мои братья!" Мы с Вовкой взяли на камбузе сухой паек (чтобы не быть иждивенцами), гитару в охапку и отправились на плот. Туристами оказались студенты из Перми. Несколько дней они шли по Каме на двух байдарках, а потом решили расслабиться на плоту. Быстро затащили байды на плот, поставили палатку, сколотили ящик, насыпали припасенный на берегу песок и разожгли костер. Мы с Володей, понятно, в стороне не отсиживались, принимали активное участие в обустройстве лагеря. Два дня пролетели, как одно мгновение: пели песни в две гитары, загорали, любовались камскими видами.
Чайковский – город, в котором родился великий русский композитор. Здесь нам предстояло взять второй серьезный барьер – Воткинскую ГЭС. Надо сказать, что на этой ГЭС интересная, замысловатая акватория и очень красивая, живописная, изрезанная береговая линия, с множеством бухт и бухточек, с холмами и холмиками, покрытыми редкими разлапистыми соснами, с небольшими, чистыми, бело-песочными пляжиками. В одной из таких бухточек под соснами и укрылось общежитие плотагентов, где мы нашли приют на несколько дней пока будет шлюзоваться плот.
Ну что сказать о Чайковском? Небольшой, довольно-таки чистый город, много воды и зелени. Не могу похвастаться, что мы с этим городом хотя бы бегло ознакомились, даже в музее Петра Ильича не удосужились побывать (была знойная погода, и мы, можно сказать, из воды не вылазили), но впечатление осталось хорошее, несмотря на то что я чуть не оказался добычей стайки девиц, которые рыщут здесь в поисках приключений. И отошел-то от общаги недалеко, побродить промеж сосен. Поясню: в Чайковском (как, например, в Иванове – городе невест) нет предприятий тяжелой промышленности, только легкая, со всеми, как говорят, вытекающими последствиями. Меня предупреждали ребята: не ходи, Ваня, в лес, не пей из лужицы – козленочком станешь, да я не послушался. Самое любопытное то, что я второй раз попадаю в подобную, скажем прямо, сказочную историю. Но видать, не в коня корм.
После Чайковского недалече было уже и до Соколок, где мне предстояло сдать свой маленький плот представителям Волжского лесосплава. Что я и сделал без особых хлопот. Володя тоже сдал свою посудину, которая терпеливо дожидалась его на стоянке. Здесь сгрудилось таких же посудин видимо-невидимо, он не сразу и нашел свою. Потом мы с ним – бегом наверх, в Тюлькино, прыгая с одного быстроходного судна на другое. Эти суда обычно ходили на небольшие расстояния, сквозных по всей Каме либо не было, либо их нужно было долго ждать, – сейчас уж и не припомню.
Отчитавшись в Тюлькинской конторе и получив зарплату и премию, мы заняли очередь (тут, как всегда в страду, было полно нашего брата; опять выпивоны, байки и истории, которых на сплаве всегда предостаточно, песни и пр. – не хочу повторяться) и помчались на другие участки добывать плоты, т. е. началась обычная беготня в погоне за плотами. Я потом не раз вспоминал наш первый рейс, нашу безмятежную, беспечную жизнь на буксире, наши приключения и связанные с ними впечатления. И не сказать, что мне так уж нужны были большие деньги: и за один первый плот я получил немало. Но такой суетливый был стиль работы у всех, и отставать не хотелось. Где мы только не брали плоты. Мы прочесали все ближние сплавные участки (из них помню только Барановский выше Тюлькино), а один плот я брал даже на реке Чусовой в населенном пункте Верхние Чусовские Городки недалеко от Перми. В заключение рассказа о сплавной одиссее хочу сказать, что я сделал еще две ходки сверху вниз и каждый раз умудрялся брать по три плота. Был уже конец августа, и мне нужно было возвращаться в Казань, чтобы восстановиться на третий курс (я ведь дал слово отцу). В сентябре меня никто бы восстанавливать не стал.
Подводя итог моим скитаниям, моим хождениям по странам и по судьбам людей, хочу сказать, что это самый богатый событиями, самый насыщенный знакомствами с людьми разных судеб и характеров, самый яркий период моей жизни. И я бесконечно благодарен своим отцам и наставникам, а также моим однокашникам, что подошли не формально, а творчески и смогли найти убедительные основания для моего отчисления. Благодаря им мне приоткрылся неведомый ранее мир – мир одновременно простой и сложный, теплый и холодный, красивый и уродливый, наивный и циничный, но более яркий и контрастный, не столь завуалированный и фальшивый, без двойной морали и потому более понятный, со своими законами и даже со своими понятиями чести. "Есть мир иной, там нету масок, – ужасны лица и без них, есть мир иной, там нету сказок шутов бесполых и шутих. …Покуда в этом вы юлили, едва прищуривая глаз, в том, настоящем, вас убили и руки вытерли о вас" (Борис Рыжий).
Но это не отдельный какой-то мир, это тот же мир, та же планета, на которой мы с вами живем, просто это другая сторона её (как две стороны Луны, как две стороны монеты), которой я не знал (и многие не знают, а некоторые и не хотят знать), и я не берусь определить, красивая она или некрасивая, черная или белая, светлая или темная. Я могу только сказать, что я увидел мир, в котором живу, более богатым и многогранным, чем я его знал. Он заиграл более яркими и разнообразными красками, засверкал разными своими гранями. Но важно то, что мир, в который нас как щенков, не умеющих плавать, бросили обстоятельства, заставил о многом задуматься, взглянуть на всё вокруг и прежде всего на себя не сквозь розовые очки, а широко открытыми глазами. Этот мир как фильтр, как лекарство от иллюзий, как вибростенд, помог стряхнуть ненужную шелуху и посмотреть на себя трезвым, непредвзятым взглядом. Помог увидеть, что мы плоть от плоти планеты, на которой живем, что это в нас темные пятна, а на ней только отражения наших темных мыслей и темных деяний; что, по меньшей мере, глупо, а по существу, непродуктивно делить мир на темный и светлый, а людей на плохих и хороших; что в любом человеке заложено доброе семя и животрепещет Божья искра и что это семя и нужно взращивать, а искре, если уж не умеешь разжечь, то хотя бы не дать погаснуть. А не топтать эти живительные ростки грязными сапогами, как это часто бывает на наших критикантских собраниях, когда из лучших побуждений блюстители чистоты и нравственности публично копаются в человеческих душах, как жуки в навозных кучах, да еще яростно прикрываются классиками: "Читайте Ленина!" Этими ассенизаторскими процедурами можно только озлобить, изуродовать человека, а не сделать его лучше. "И ощущаешь Богу равным себя, когда движеньем плавным торжественно, без суеты в чужие вкладываешь раны свои немытые персты" (И. Брейдо). И, наконец, самое главное: всё стало для меня четче и определеннее, я стал смотреть вперед с обоснованным, а не интуитивным оптимизмом: хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал лучше, начинай с себя и становись лучше сам.
Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Так я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.
Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.
(О. Мандельштам)
Глава 10. На круги своя
"Зачем же мы рвемся сюда, как паломники в Мекку?
Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку?
Мы с прошлым простились, и незачем дважды прощаться.
Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться".
(Ю. Левитанский)
Всего лишь однажды я дважды вошёл в эту реку –
иначе не мог: дал обет одному человеку.
Заложив вираж над Казанью и сделав круг почета над Казанским авиационным институтом, я пошел на посадку и благополучно приземлился на хорошо знакомом аэродроме 3-го курса 1-го факультета – факультета летательных аппаратов.
Пока меня не было, в нашу 309-ю поселили Лешу Пономаренко и Олега Черемухина. Я устроился на своем обычном месте за перегородкой, и даже прикрепленная к спинке кровати винтовым зажимом лампа моя осталась незыблемой. А это значит, что я был не только восстановлен в студенческих правах, но и снабжен легальным местом в родной общаге. Но почему же тогда в нашей комнате опять оказался перебор "легальных" мест в два человека. Попробуем разобраться. У нас троих (у новеньких и у меня) – железное алиби. В остальных вроде тоже нет оснований сомневаться. Витя Ермаков с Колей Егоровым точно вне подозрений: Витя аристократ, а Коля такой хитрован, что под него даже бульдозером не подкопаешься. Миша Левтеров тоже благовоспитанный, то есть малопьющий (всё пьет и всё мало), к тому же такой авторитет! Главный художник "Самолета". Женька Назаров – член факультетского бюро комсомола и вообще свой в доску и мой лучший друг. Валера Краснов, хоть и не общественный деятель, но ударник учебы плюс человек из глубинки, а значит, морально устойчив и идеологически выдержан и в связях с иностранной разведкой не замечен… Стоп! Вспомнил: Валера по собственной инициативе переселился в комнату к Юрке Крюкову из нашей группы – они к этому времени крепко закорешились. Но все равно: один – лишний. Шут с ним: эта задача, видно, не имеет решений. К тому же скоро у нас в комнате по утрам ногу некуда будет поставить от изобилия раскладушек. Лучше я, пока не поздно, скажу пару слов о новых ребятах.
Леша Пономаренко вернулся из академки (академический отпуск), как и полагается, на курс ниже и попал в нашу группу, то есть в мою прежнюю группу на четвертый курс. Южанин, родом из Краснодарского края, высокий, стройный, непозволительно красивый, непьющий, некурящий, комсомолец, спортсмен, как немец, аккуратный. Позвольте, тут произошла какая-то перепутаница: это мне, немцу, полагается быть аккуратным и обладать всеми Лешиными достоинствами, как у Высоцкого: «Он кричал: “Ошибка тут! Это я – еврей!” А ему: “Не шибко тут! Выйди из дверей!» Одним словом, красавец-мужчина и истинный ариец. И при всех этих компрометирующих Леху качествах он умудрялся быть классным парнем.
Олег Черемухин – будущий Выдающийся Авиаконструктор (см. в интернете "Авиаконструктор О. А. Черёмухин”). 1944 г. р., на три года старше нас, он был женат и уже имел дочку. Жена его Оля с дочуркой Катюшей жили у его родителей в Горьком, и Олежка при первой возможности (иногда даже на выходные) уезжал к родным. Это был простой в общении и открытый человек, много рассказывал о жене, родителях и особенно о Катюше, показывал фотографии. Видно было, как он любит их и как тянется к ним всей душой. Позже, когда после института я так же, как и Олег, и не без его влияния, распределился в Горький в ЦКБ по СПК (Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях), мы с женой и дочкой часто бывали у них, как у себя дома.
Олег резко отличался от нас своим серьезным, ответственным отношением ко всему, что он делал. Постоянно работал и не позволял себе расслабляться. Редкий случай: он пришел в институт после армии, имея уже определенную цель научиться строить самолеты, и все свои ресурсы подчинял этой цели. Все курсовые проекты он делал не формально, не поверхностно, лишь бы сдать, а скрупулезно и въедливо, с прицелом на задуманные уже им летательные аппараты. И всегда, как ребенок игрушке, радовался после выполнения очередного проекта: "Вот теперь я знаю, как выбрать схему летательного аппарата и посчитать его аэродинамику!" или "Теперь я смогу проверить свой аппарат на прочность!" и т. д. Второстепенным предметам большого внимания не уделял, не распылялся (но все равно сдавал не меньше, чем на "хор"), все силы концентрировал на профильных дисциплинах и сдавал их блестяще, только на "отлично". После института, работая, как я уже упоминал, в ЦКБ, всё свободное время отдавал проектированию, конструированию, строительству и испытанию своих летательных аппаратов в глухих Муромских лесах, где родился и вырос. В свое время мы к этому еще вернемся.
Группа, в которую меня определили отцы из деканата, была спокойной, ровной, работящей и комфортной для меня. Всё было мне здесь любо, все было по душе. Я как сейчас помню многие имена и лица ребят из этой группы. Пообещав отцу восстановиться, а значит, серьезно взяться за учебу, я прилежно ходил на лекции, писал конспекты, все схватывал и понимал, о чем речь. Все курсовые работы, проекты и многие экзамены сдавал досрочно и только на "отлично" (до самого окончания института постоянно получал повышенную стипендию). Все, кроме одного. Угадайте, какого? Совершенно верно, кроме деталей машин. Курсовой проект я сдал на "отл", а экзамен принципиально пошел сдавать тому же преподавателю. Выслушав меня не перебивая, он, как всегда, тихо, со светлой улыбкой на плоском, благообразном лице, с тщательно прилизанными волосами (ну просто ангел во плоти) молвил: "Ну вот, теперь совсем другое дело". И поставил в зачетке после четырех "отл" – "хорошо". Мощный же я заложил в него негативный заряд! – хватит на всю оставшуюся жизнь. Но и из этой нелепой ситуации я извлек урок: когда двенадцать лет спустя стал преподавателем, в том числе и деталей машин, я никогда не то что не мстил студентам, но даже когда был с кем-нибудь в конфликте, что было очень редко, на бал завышал оценку.
Прослушав курс "Расчет самолета на прочность" у профессора Одинокова Юрия Георгиевича и получив на экзамене пять баллов, я занялся научной работой, выступил на конференции с темой "Расчет панелей переменного сечения" и занял первое место. Потом продолжал заниматься этой темой вплоть до окончания института. Но хоть я и был в первой десятке на курсе по распределению, в аспирантуре у профессора Одинокова места для меня не оказалось. Два места по праву заняли выпускники с красными дипломами. Мне предложили должность инженера на кафедре, а над темой продолжить работу в качестве соискателя. Об этом можно было только мечтать. Но я был максималистом (только здесь и сейчас) и считал, что и так потерял год. К тому же Олег Черемухин звал в ЦКБ по судам на подводных крыльях, где, кроме речных скоростных судов, впервые в мире и только у нас проектировались, создавались и проходили испытание уникальные аппараты под названием экранопланы.
Но всё это было еще впереди, а пока – я учился на третьем курсе. Вообще теперь, когда я перестал ждать манны небесной, перестал метаться по полю боя в поисках цели и стал бить в одну мишень, я сделался спокойным и умиротворенным. Но не только потому, что решил на первых порах закончить именно этот институт, а там видно будет, но и потому, что после ссылки стал смотреть на всё другими глазами. Стал больше понимать и лучше ориентироваться в жизненных ситуациях, старался войти в положение того или иного человека, стал молчаливее и мягче, не вступал в споры, не суетился так, как раньше, и никого никуда не агитировал, не участвовал в общественной жизни. К ребятам в новой группе относился очень тепло, и они платили мне тем же. Но я был как-то несколько в стороне от них. Я тогда справил себе светло-серый костюм, и ребята в шутку называли меня: "темная личность в светлом костюме". А ещё – "сударь".
В этой группе я был серьезно влюблен в замечательную девушку Тоню из Душанбе. Это про неё сказал Н. Заболоцкий в стихотворении "Портрет":
Её глаза – как два тумана,
полуулыбка, полуплач,
её глаза – как два обмана,
покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук…
Летом, когда она уехала домой на каникулы, мы переписывались, и я собирался уже отправиться в Душанбе для знакомства с её родителями. Но что-то помешало мне, а потом как-то всё расстроилось, распалось, я даже не знаю (или не помню), почему.
Где-то в это время, осенью 68-го, я познакомился с Мишей Доброхотовым, аспирантом 3-го факультета приборостроения. Он жил вместе с аспирантом нашего факультета Толиком Б. в двухместной комнате, которая располагалась наискосок от 309-й. Я иногда заходил к Толику побеседовать о высоких материях, и, конечно, не мог не заметить столь колоритную, даже по внешнему виду, личность. Среднего роста, с темно-коричневыми волосами и такого же цвета густой окладистой бородой, с классически правильными чертами лица, он мог бы сгодиться в разведчики, если бы не острые, очень подвижные, открыто улыбающиеся черные глаза. Миша был гуманитарно эрудирован и как-то оригинально (если не сказать, парадоксально) мыслил и выражался. Его изысканная, без всяких претензий на исключительность, русская речь, органично приправленная добрым юмором и иронией, изобиловала небанальными метафорами и афоризмами, и даже легкое заикание совсем не портило её. А как он играл на гитаре! В отличие от большинства тогдашних исполнителей самодеятельной песни, он, во-первых, играл на шестиструнке, во-вторых, использовал в аккомпанементе множество красивых, точных, богато звучащих аккордов и даже элементы аранжировки и, в-третьих, репертуар его, по крайней мере на концертах, состоял преимущественно из юмористических и сатирических песен Галича, Кима, Клячкина либо песен на хорошие стихи с хорошей драматургией: Галича, Анчарова, Окуджавы. На сцене во время исполнения сатирических песен он был настоящим лицедеем, в нем всё ходило ходуном: голова, мимика, глаза, которые блестели лукаво и ликующе, как у демона. Ко всем его достоинствам нужно прибавить увлечение альпинизмом. Он был в этом деле далеко не новичок. Почти сразу после нашего знакомства Миша переселился в нашу комнату и органично влился в нашу дружную семью.
К Мише часто приходил его друг по альплагерю Валера Зорин. Он, после Куйбышевского радиотехнического института, работал на каком-то предприятии радиотехнической ориентации и то ли снимал квартиру, то ли жил в общежитии. Чтобы не ездить через весь город к другу, Валера, недолго думая, тоже переселился к нам в комнату. Он собирался поступать в аспирантуру (кажется, в наш институт) и готовился к кандидатскому минимуму. Мне показалось, что, штудируя философию, Валера обнаружил в себе такой сильный гуманитарный наклон, что вообще забыл о каких бы то ни было кандидатских экзаменах и заскользил по этой наклонной плоскости. Он будто открыл для себя философию, в любое время его можно было увидеть с каким-нибудь первоисточником, даже за трапезой или питием крепких напитков. Когда, например, я подавал ему стакан с вином, он говорил: "Нет, ты послушай, старик, какая сногсшибательная мысль у Канта! " И зачитывал мне абзац на полчаса. В аспирантуру он так и не поступил (оставил техническую стезю в покое), зато, насколько мне известно, посвятил себя гуманитарному поприщу, ибо по прошествии нескольких лет, будучи уже москвичом, привлекался (здесь не нужно вздрагивать!) издательствами в качестве эксперта! при издании серьезных книжек, например, "Круг чтения" Л. Н. Толстого. Думаю, что ничего не соврал, а если и соврал, то в несущественных деталях. По крайней мере, у меня есть книжка с именем Валеры Зорина в редакционной коллегии. Кроме всего прочего, сей неугомонный муж занялся живописью, и, как всегда, основательно: мне довелось видеть в его московской квартире качественно исполненные копии известных мастеров.
Чтобы закончить страницу знакомств, расскажу еще об одном, тем более что оно органично вплетается в первые два и вообще в наше туристское содружество. Подходит как-то ко мне на почте симпатичная девчонка с веселыми глазами и спрашивает: "Вы Олег Кох?" Вот те раз, думаю, попал, как кур в ощип. "Предположим, – говорю. – А в чем, собственно, дело?" – "Хочу ходить с вами в походы", – без обиняков сказала таинственная незнакомка. Ай да дивчина, подумал я, режет напрямик. А ты расфуфырил хвост: "Предположим, в чем, собственно, дело". Так Людмила Пилипенко с биофака Казанского университета стала нашей боевой подругой и не только в турпоходах, но и в мирное время. Им с Валерой Зориным суждено было стать мужем и женой. Каким причудливым образом переплетаются иногда жизненные нити. И никуда не денешься: сводником-то оказался я, со всеми вытекающими… И далеко не последний раз, но об этом речь впереди.
И еще об одном пополнении. В нашем туристском отряде, не помню, когда и как, появилась еще одна Людмила (запамятовал её фамилию, поэтому пусть будет условно Ч.). Она, кажется, училась на втором курсе нашего факультета. Коренастая, плотная, физически сильная, с короткой стрижкой, с порывистыми движениями, неуправляемая, не признающая никаких правил и малейшего насилия над собой, она была похожа на задиристого, озорного мальчишку. В ней было что-то дикое, первобытное. Любимым её занятием было метать топор или нож в дерево, и делала она это весьма искусно. Она могла внезапно налететь на кого-нибудь из парней и сбить его с ног, невзирая ни на возраст, ни на авторитет (среди нас все-таки были кое-что повидавшие инженер и аспирант), ни на другие обстоятельства и не признавая никакой субординации (у нас была какая-никакая иерархия), и, доложу я вам как человек неоднократно подвергавшийся подобным экзекуциям, эти испытания не для слабонервных. Неожиданно сбитый с ног и с толку, не понарошку, а всерьёз поверженный ниц, не в состоянии принять шутливое выражение физиономии, ты лежишь, как дурак, и не знаешь, что делать: и сдачи дать нельзя (все-таки молоденькая девчонка) и обматерить нельзя, а перед тобой ликующая физиономия победителя. Я сравнивал её то с вождем краснокожих из новеллы О. Генри, то с Чингачгуком Фенимора Купера. Между тем Людмила была очень симпатичной девчонкой, и если бы нарядить её в бальное платье, то это была бы просто красавица. Но ей на это было наплевать. Я не раз представлял себе подобную метаморфозу: Людмила в белом платье и в туфлях на высоком каблуке (я даже как-то сказал ей про это, но она тут же полезла драться), но представить себе, что нашлись бы в природе такие силы или такие обстоятельства, которые могли бы совершить над ней это противоестественное её укладу действо и заставить её сменить телогрейку на платье и боевой топор на веер, не мог, как ни старался.



