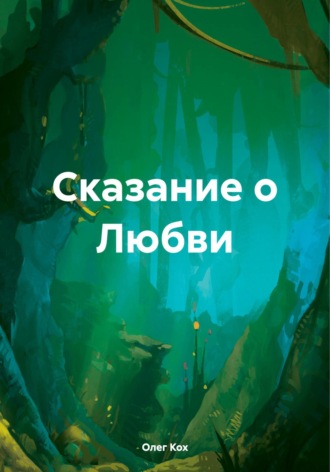
Полная версия
Сказание о Любви
Однако всё это – "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой". Всё, казалось, давно прошло и поросло трын-травой… И вот теперь что-то такое вдруг надвинулось тихо и незаметно, но цепко и настойчиво, прямо и бесповоротно, как будто накрыло нас непроницаемым, теплым покрывалом, из-под которого невозможно было выбраться, но самое главное, – не хотелось выбираться. Состояние, в котором мы неожиданно оказались, не имело ничего общего с внезапной влюбленностью и тем более с пресловутой любовью с первого взгляда (последней, понятно, и не могло быть), которые обычно налетают, как ураган, но часто и улетают так же стремительно и безвозвратно. Мы как-то сразу будто опомнились, как будто любовь уже давно жила в нас без нашего ведома и только ждала очной ставки и именно для того, чтобы обнаружить себя. Мы часами бродили, взявшись за руки, сентябрьскими, необычно холодными в тот год вечерами. Подолгу просиживали на каких-то, будто специально для нас приготовленных скамейках, кутаясь и зарываясь друг в друга без всякого вожделения и в то же время с какой-то неизъяснимой нежностью. Между нами не было никакой скованности, никакой искусственности, нам не нужны были слова, мы спокойно обходились даже без поцелуев, не говоря уже о других проявлениях страсти. У меня было такое счастливое ощущение, что я нашел то единственно важное и драгоценное, что должен был найти и что сознательно или бессознательно искал, и что никуда это теперь не денется, что теперь в моей жизни все ясно и определенно.
Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.
Снится – снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне – колючий шиповник,
И вечерний туман.
Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.
Этот голос – он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.
(А. Блок)
Вероятно, суждение это было ошибочным, а состояние эйфории, в котором я пребывал, – весьма неустойчивым. Впоследствии я заметил, что подобные состояния вообще были свойственны мне, и скорее всего, от природы. Это было у меня и с друзьями: я был уверен (лучше сказать, самоуверен), что они есть, всегда будут и никуда не денутся; мне вполне было достаточно того, что я их люблю, что они всегда со мной. Нечто подобное было и с Люсей. И это и было ошибкой. Не смею сказать – роковой, ибо опять-таки: пути Господни неисповедимы. С другой стороны, не нами сказано и испытано: "С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них…" (А. Кочетков). Но ведь есть примеры, иллюстрирующие и противоположное мнение, что разлука только укрепляет союз, – некий вариант тургеневской любви. Вот в него-то я и верил и его-то и исповедовал. А природа тут ни при чем. Как бы там ни было, пришел час разлуки, мне тогда казалось, – временной, тургеневской… Остается только вздохнуть с горькой иронией: "Какой родной пейзаж утрат внезапных, какой прекрасный свист из лет прошедших" (И. Бродский). Уже вовсю шли занятия, и, как бы мне этого ни хотелось, нужно было возвращаться в институт грызть гранит науки. Как будто кроме серого камня нечего больше грызть…
Глава 8. А судьи кто?
"Нет истины в вине.
А впрочем, нет и вне".
(И. Брейдо)
"А судьи кто?" – спросил я, чуть дыша.
"Да не боись: всё наши кореша".
События, описанные в этой главе, в какой-то степени были предопределены, как бы назревали. Хоть я и не фаталист. Внешне вроде всё было как обычно: шел пятый, осенний семестр, мы взяли перевал из общеобразовательных предметов и вступили в много чего сулящую равнину из спецпредметов и их предтеч: сопромата, теории механизмов и машин (ТММ – "тут моя могила"), деталей машин. В моем же восприятии равниной были первых два курса, где мы в основном изучали математику и физику, где для меня били какие ни на есть родники, и я все же находил для себя отдушину.
Главной такой отдушиной для меня неожиданно стала философия. Я, вопреки стихийно сложившимся правилам, посетил лекцию, и мне стало интересно. Но особенно захватили меня семинары, где мы пускались в увлекательную дискуссию, как в свободное плавание. Такой гимнастики ума я не испытывал даже в математике, а в плане красоты построения философских систем философия превосходила даже литературу. Однажды, когда я гулял на свадьбе у кого-то из наших ребят, а наш преподаватель по семинарским занятиям на этой свадьбе дежурил (таков был порядок), мы с ним так увлеклись беседой на философские темы, что опомнились только тогда, когда свадьба кончилась и вся водка была выпита. Мы оба пожалели об этом, но не очень: кайф от философских упражнений был ничуть не меньше, чем от водки, к тому же не требовал опохмелки.
Своих лекций для подготовки к экзамену у меня не было, достать конспект тоже не удалось (для большинства "философия" была непреодолимым айсбергом, все боялись ее, как черт ладана, и не отваживались расстаться с конспектами), так что я даже решил не ходить на экзамен. Потом все же пошел, как всегда, к концу. Увидев Мишу Одинокова и Люсю Хазову, уже сдавших на "отлично" и кого-то консультирующих, я решил взять их в оборот. Пробежав с ними буквально за полчаса в режиме мозгового штурма все вопросы (только самую соль, два-три слова по каждому вопросу), я пошел сдавать и получил "отлично".
Философия явилась мне в образе прекрасной и премудрой феи, с которой мне не страшны были никакие житейские передряги. Мне казалось, что с помощью такого мощного и красивого инструмента с его жестким детерминизмом и непогрешимой убедительностью его логических построений, каковым является диамат (диалектический материализм), я могу объяснить и обосновать всё и вся, что и делал при каждом удобном случае.
Но однажды я был наголову разбит, как швед под Полтавой, отшлёпан, как нашкодивший ребенок; и даже не понял, как это произошло. Отгадайте, кто же были эти храбрые, но милостивые к падшим воины, эти строгие, но снисходительные наставники, эти скромные, но беспощадные ниспровергатели основ? Ими оказались два студента духовной семинарии, которые, как и я, ехали домой на каникулы в одном со мной вагоне. Тема была извечная и злободневная: что первично, материя или сознание, есть Бог или Его нет.
Гастроли сии происходили, как я упоминал, на втором, еще счастливом для меня курсе. А третий курс с его "Тут моя могила", – "Деталями машин", – "Металловедением", да еще и совершенно инородной "Электротехникой" (как тут не вспомнить истошный вопль патологически молчаливого и флегматически спокойного Валеры Краснова: "Не ходи! Там – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА!!!") представлялся мне вообще каким-то непролазным, безысходным болотом. Особенно возмущал меня предмет "Детали машин". Я просто негодовал: "Да что это такое?! Мы где находимся, в авиационном институте, куда пришли познавать "Аэродинамику", – "Динамику полета", – "Системы управления и регулирования", то есть все, связанное с самолетами, или в ПТУ "Механизатор широкого профиля", где изучают шестеренки и подшипники?!" При этом я и слышать не хотел, что и в самолете есть эти пресловутые шестеренки и подшипники. Какое мне до этого дело? Я это уже в школе проходил!
Эти возмущения, эти скачки уплотнения я и распространил на заседание учебной комиссии факультета, активным членом которой являлся. И это вам не хухры-мухры! Ведь нас предупредили, что сейчас в стране Оттепель, а это значит, что можно открыто, без последствий высказывать любые критические замечания, любые предложения, вплоть до замены некоторых предметов другими, удобоваримыми. И такой заманчивой возможностью я не преминул воспользоваться и предложил заменить "Детали машин" другим, авиационным предметом. А если честно, я не прочь был, как в народе говорят, махнуть не глядя "Детали машин", например, на "Основы русской словесности". Но почему-то не решился. Мое предложение не прошло, и большинством голосов "Детали машин" оставили, ибо обладатели этих голосов, не в пример мне, невежественному гуманитарию, обожали шестеренки и подшипники. Я нисколечко не обиделся, потому что уважал демократию.
Зато очень обиделся преподаватель этих самых "Деталей машин". Ему, очевидно, передали содержание нашего бурного заседания (а почему бы и нет, ведь заседание было открытым и – ни для кого не секрет, мог бы прийти и тоже активно поучаствовать), и он принял мое конструктивное предложение за личное оскорбление. Редко встретишь такое ревностное отношение к своему предмету. Но я даже не догадывался о душевных муках самоотверженного деталиста-машиниста, которому я невольно причинил такие трудно переносимые страдания. А ведь это был тихий, мухи не обидит, человек. И, может быть, даже сам обиженный богом.
Но как бы я ни относился к "Деталям машин", курсовой проект по этому предмету, не особенно утруждая себя соблазном постигнуть всю неумолимую логику и, как выяснилось годы спустя, красоту инженерных расчетов, но, как говорят урки, и не совсем уж "без понятия", я худо-бедно выполнил и защитил на "хорошо". Руководитель курсового проекта (слава богу, им оказался не упомянутый выше лектор, иначе судьба моя решилась бы уже при его защите) похвалил меня: "У вас – отличного качества чертежи (бальзам в уста и музыка в уши моего отца, ибо именно он научил меня чертить), и я с удовольствием поставил бы вам "отлично", если бы вы сдали в срок". Таково было незыблемое правило (после срока – не более "удовлетворительно") во всех вузах и во все времена, и оно имело под собой убедительные основания. Но я, патологический ниспровергатель основ, позже, когда сам стал преподавать "Детали машин" в Чувашском госуниверситете, похерил это правило.
Изобилие отмеченных выше чуждых мне предметов, безусловно необходимых и создающих основу для специальных, чисто авиационных дисциплин, привело меня к необходимости что-то кардинально изменить, найти что-то свое. Но я никак не мог определить, что оно такое, это свое, и с чем его едят. Поэтому малодушно продолжал плыть по воле волн: ведь мечтать всегда легче, приятнее, безопаснее и, главное, безответственнее, нежели предпринимать кои-то действия. К тому же, кроме занудных дисциплин, не слишком меня обременяющих и докучающих мне, т. к. на лекции я не ходил, были и другие проявления жизни, другие живительные её струи. И самой сильной такой струей была уже давно и крепко захватившая меня и моих друзей в плен бродячая туристская стихия.
Походная жизнь наша шла своим чередом по давно скоррелированному с советским законодательством расписанию, согласно которому наш немногочисленный, но закаленный в походах боевой отряд каждые праздники уходил в зовущие нас своей необъяснимой таинственностью и красой дремучие марийские леса. В нашем активе, кроме памятного первомайского на озеро Светлое, были походы на День Победы в конце второго курса и три похода на теперешнем третьем: на Октябрьские праздники, на День Конституции и на Новый год. Из них больше всего запомнился поход 7 ноября на озеро Канандер – одно из самых красивых и чистых озер в марийской тайге. Марийские озера вообще славятся своей первозданной красотой и прозрачностью (8 – 9 м).
Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.
…………………………………………………………
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.
………………………………………………………
И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной…
……………………………………………………………
Так Николай Заболоцкий в стихотворении "Лесное озеро" живописал точный портрет озера Канандер, как будто сам там побывал.
Мы катались по озеру на бревенчатом плоту, любуясь его подводным миром: белым песчаным дном, водорослями различных цветов и оттенков, фантастическими рыбами и рыбешками и вековым величественным хвойным лесом вокруг него. Фотографировали и фотографировались. Погода была на редкость чудесная для этого календарного времени: тихо и ласково светило солнышко, в незыблемой глади озера отражались опрокинутые в него сосны-исполины, природа как бы застыла в безмолвии. Быстро и незаметно наступил вечер, на небо высыпали звезды, взошла луна, и картина вокруг нас стала еще более таинственной и завораживающей. Мы сидели у костра на берегу волшебного лесного озера, среди первозданной девственной красоты, затерянные в глуши и притихшие, а наш знаменитый СТЭМовский тенор Юра Самойлов – высокий, стройный, в зимней папахе и с красной бабочкой на шее, сооруженной в честь праздника из лоскута красной материи, стоя за нашими спинами и вздернув голову к небесам, торжественно выводил: "Смотри, какое небо звездное, смотри звезда летит, летит звезда…" И все мы целиком были во власти этой чарующей музыки, этой магической природы и уносились вместе с Юрой в манящую звездную даль тремя рыжими рысаками… А потом, чтобы не потеряться в бесконечных звездных просторах, снижали пафос и завывали на луну: "Вот одинокая луна посеребрила неба просинь. Зачем на улице весна, когда в душе давно уж осень…" И бесконечна была эта тихая морозная ночь у костра, и, очарованная, слушала марийская тайга наши бесконечные песни, наши избыточные душеизлияния…
Палатки решили не ставить. Разгребли костровые угли, попрыгали на них и завалили лапником, расстелили палатки и устроились на ночлег, тесно прижавшись друг к другу и укрывшись общежитскими одеялами. Я лежал на краю и поэтому имел лишнюю степень свободы переворачиваться с одного бока на другой. Эволюции эти происходили довольно часто ввиду большого градиента температур между двумя моими боками: прижатым к раскаленному и источающему горячий пар, как в банной парилке, лапнику и обращенным к морозному звездному небу. Если бы к моим бокам подсоединить термопару и повесить на нее прожектор, то в нашем лагере было бы светло, как днем. Я ворочался, как червь на сковородке, и бубнил слова из песни Бориса Вахнюка: "Я в походе, мне повезло, у костра я, ну чем не Сочи… Но с одной стороны – тепло, а с другой стороны, где-то возле спины, чуть пониже спины – не очень…" Вдобавок ко всему на моей правой щеке обманутый горячим лапниковым паром вырос фурункул величиной с египетскую пирамиду, – вероятно, подумал, что пришла весна. А вы говорите, что турпоходы – романтика и сплошной кайф.
Наутро египетскую пирамиду завалило снегом, а вместе с ней и весь живой мир вокруг. В этой связи вспоминается другой поход и в другом месте (кажется, на Илети), но так же – на 7 ноября и с такой же волшебной переменой красок: пестрых осенних на белые зимние. Правда, на этот раз сказочное превращение природы застало нас в палатке, и тонкие душевные струны Валеры Бокова тут же отозвались словами поэтической зарисовки: "Снег идет, снег идет – белый снег. Серебрит берега изумрудных рек. Мы сидим в палатке, и струна поет… Без конца, без конца белый снег идет…" – на мой слух, одной из лучших, лаконичных, ритмически – в такт падающему снегу – точных и эмоционально выверенных и достоверных.
И буквально несколько слов о походе на День Победы на втором курсе. Это был второй, после первомайского, наш поход. Тогда из 25-ти еще не все рассеялись. Памятен он тем, что к Миле Корепановой приехала из их родного Саратова школьная подруга. До сих пор осталось в памяти редкое, трогательное обаяние их дружбы. Помню, как они пели песню, которой я до того не слыхал: "И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу…" И столько было в ней свежести, искренности, чистоты, комсомольского задора и очарования и с такой юношеской непосредственностью и воодушевлением они ее исполняли, что все мы, сидящие вокруг костра, испытали острое ностальгическое чувство. Хотелось немедленно вернуть то наивное, беспечное, но проникновенное и полное надежд школьное время. И вместе с тем было необычайно грустно, что оно никогда уже не вернется.
Однако пора вернуться к основным событиям настоящей главы и приступить к развязке главной интриги, эти события предваряющей и ставшей их движущей силой. Шел третий год затяжной, изнурительной, неравной баталии между студентами и преподавателями, приобретающей в течение семестра характер позиционной и обостряющейся, переходящей в активную, непримиримую свою фазу во время сессии. Я сдал уже все экзамены (готовился, как обычно, по ночам, когда освобождались чужие конспекты), и оставался один единственный по "Деталям машин". Как сейчас помню, попался мне вопрос по ременным передачам (второй вопрос – извиняюсь за тавтологию – не вызывал у меня никаких вопросов). Я списал его прямо из конспекта, откровенно лежащего на столе (шпаргалок никогда не писал и, следовательно, не пользовался ими), и срисовал рисунок, похожий на каракатицу (никогда не видел каракатицу, но уверен, что именно так она и должна выглядеть) и демонстрирующий картину напряженного состояния ремня, огибающего шкивы ременной передачи.
Преподаватель выслушал меня, почти не перебивая, посмотрел на "хорошо" за курсовой проект на правой странице моей зачетки и с тихой улыбкой на лице поставил мне "неуд" на её левой странице. Для меня сие его писание оказалось полной неожиданностью. Даже если бы я промолчал, как рыба об лед, и ни слова не сказал по билету, то, имея "хор" за курсач, мог рассчитывать, как minimum, на "удовл", – так нам обещали, и таково многовековое правило. Однако, из чрезмерного человеколюбия, я и виду не подал, чтобы не умножать тихую радость тихого человека: говорят, избыточные положительные эмоции опаснее умеренных отрицательных. А если без дураков, не в моих правилах выпрашивать милостыню у кого бы то ни было и тем более у неприятеля.
У меня было право на две переэкзаменовки. В это время в недрах моего сознания проснулось и беспокойно зашевелилось не оформившееся когда-то желание что-то кардинально в своей жизни изменить. Вместе с тем я, насколько мог честно, сказал себе: "Признайся, положа руку… ты ведь не постиг всю глубину инженерных расчетов. В чем же дело – постигай, тебе предоставляют такую возможность". Я постиг и пошел на переэкзаменовку, где и стал со знанием дела излагать то, что постиг. Но мой визави вдобавок ко всем своим достоинствам был человеком честным и откровенным и, не желая искушать, остановил меня: "Ваше приснопамятное негативное высказывание в адрес предмета, который вы сейчас пыжитесь сдать, не находит во мне возможности поставить вам "уд", и я не вижу, что такая возможность появится. Так что третий раз вам нет смысла приходить". Я мог бы предложить помощь незадачливому преподавателю, например: воспользоваться оптическими приборами, чтобы лучше видеть, или привлечь собаку-ищейку, чтобы тщательнее искать. Но вместо этого я поздравил его с досрочно одержанной убедительной победой и пообещал, что сложу оружие и продолжать поединок не буду.
Таким неожиданным, стремительным исходом я был прямо поставлен перед необходимостью что-то предпринимать. Я отправился в деканат мехмата университета и, узнав, что переводы в сей уважающий себя вуз из технических вузов не позволяет сделать большая разница в учебных планах, решил поступать на первый курс. Меня пытались выручить друзья. Например, ко мне в общежитие пришел Витя Мизгер, студент 5-го курса, спортсмен-планерист и мой однокашник по авиаспортклубу, первый секретарь институтского комитета ВЛКСМ, имевшего статус райкома комсомола, и сказал, что легко решит проблему с "деталями машин" в мою пользу. Но я от помощи отказался, ибо твердо решил поступать на мехмат университета.
Между тем пришло время деканату осуществить одну из своих карательных функций: отчислить студентов, не достойных продолжать учебу в доблестном Казанском авиационном институте. Основных причин две:
1) неуспеваемость и
2) недостойное поведение – понятие весьма растяжимое.
По остальным причинам (болезнь, как правило, мнимая, внезапная женитьба, рождение ребенка и пр.) оформлялся академический отпуск. Часто академку оформляли в случае неладов с учебой (невыполненный или незащищенный курсач, несданный экзамен и т. д.), важно вовремя добыть необходимую справку.
Что касается меня, то ситуация с моим отчислением осложнялась тем, что я был членом учебной комиссии факультета. Нонсенс: член учебной комиссии – двоечник! Как он туда затесался?! Ату его: заклеймить и исключить из священных рядов! Священные ряды Членов комиссии сомкнулись со священными рядами работников деканата (не берусь утверждать, что к ним не примкнули священные ряды факультетского бюро комсомола), и начался занимательный спектакль. Один за другим выступали Члены комиссии (и мои сокурсники в их числе) и, вымучивая себя, копались в моем исподнем белье, силясь найти в нем блох, вшей и других опасных вредителей, угрожающих здоровому, кристально чистому коллективу. Сколько интересного узнал я о себе! Не зря говорят, что со стороны виднее. Я смотрел на этот водевиль и удивлялся: ну не соответствую высокому званию Члена, так проголосуйте и очистите свои стерильные ряды от инородного элемента. К чему этот фарс?! Тут неожиданно встает председатель учебной комиссии и с заметным разочарованием говорит: "Понимаете, какая загвоздка: тут на него имеется благодарственная грамота из правления колхоза "Татарстан", что якобы помог спасти урожай картошки. Нас в Татарстане не поймут, если мы выбросим из наших рядов члена с Грамотой…"
Скажу честно, что я о существовании этой Грамоты ничего не знал и не мог знать: предназначенная мне Грамота почему-то перепутала адресата и попала в руки председателя учебной комиссии факультета?? Повисла нехорошая пауза… И вдруг вскакивает один Член и радостно сообщает: "Я знаю, почему он на колхозном собрании предложил остаться на дополнительный срок и якобы спасти урожай". – "Почему-у??" – дружно выдохнули остальные Члены. "Потому что он – жадный: хотел больше заработать!" Все Члены и им сочувствующие вздохнули с облегчением. Я и сам обрадовался, что был найден такой простой, но убедительный аргумент, хотя был уверен, что картошку мы убирали в порядке шефской помощи Города – Селу, и не помню, чтобы нам за бескорыстную помощь платили зарплату. Вопрос был решен, и непорочные ряды были триумфально от меня, порочного, очищены. А вместе с тем и я был очищен от некоторых розовых иллюзий. После заседания находчивый Член, обнаруживший спасительный аргумент, похлопал меня по плечу и сказал: "Прости, старик, – надо было спасать положение". – "Да не переживай ты, – успокоил я его. – Далеко пойдешь!" А одноклассник мой Иосиф Брейдо добавил: "Вылизывая досуха и начисто, ты отвечаешь, как всегда, за качество". Преград, чтоб меня отчислить, у деканата больше не было, что он с удовольствием и осуществил. "Слава тебе Господи! – подумал я. – Даже из института не могут выгнать без карнавала!"
Перечитал эпопею с моим изгнанием из института, и стало как-то не по себе. Получается, что они плохие, а я – хороший? Что существует два мира:
1) мир власть имущих и мир подвластных;
2) мир гонителей и мир гонимых;
3) мир униженных и оскорбленных и мир унижающих и оскорбляющих;
4) мир праведных и мир неправедных.
К каким же мирам я отношу себя? Если разобраться, – ни к одному из перечисленных. Я и не власть имущий и не подвластный. Я допускал, что, в порядке служения делу, могу быть и начальником (если доверят), и подчиненным. Не дай мне Бог унижать, оскорблять и тем более преследовать кого-нибудь; но и униженным и гонимым я себя не чувствовал. И праведником себя не считал. Но откуда же это ощущение, что я и те, кто меня обсуждал и осуждал, уличал и обличал, находимся в разных мирах, по разные стороны баррикад? И почему они имеют право и желание осуждать меня, а мне это право совсем не нужно и даже обременительно, и упаси Боже меня от желания кого-то судить? И как это случилось, что они отделили меня от себя и даже освободились от меня, как от ненужного и вредного элемента? Ведь до этого разбирательства я был один из них, я был вместе с ними и не хотел отделяться от них. И почему они были неискренни: ведь я же видел, что они не желали говорить то, что говорили. Как будто над ними довлела какая-то грозная, роковая сила, как будто кто-то заставлял их против их же воли? Раньше, когда я встречал в характеристиках: "морально устойчив и идеологически выдержан", я даже не задумывался над этими словосочетаниями, воспринимал их как фигуру речи, что ли. Но теперь эти слова стали доходить до меня. Я понял, что это не просто красное словцо, это – идеологическая установка. Первый раз в жизни Идеология простерла надо мной свое черное крыло, первый раз я почувствовал ее холодное дыхание. До сих пор я был активным пионером, активным и сознательным комсомольцем и не сомневался, что стану передовым коммунистом; верил, что мы построим коммунизм и что это будет самое совершенное общество красивых и праведных людей. А теперь я изгой, и коммунизм будут строить без меня. Поистине: "Меж топором и лобным местом альтернативе нету места" (И. Брейдо).



