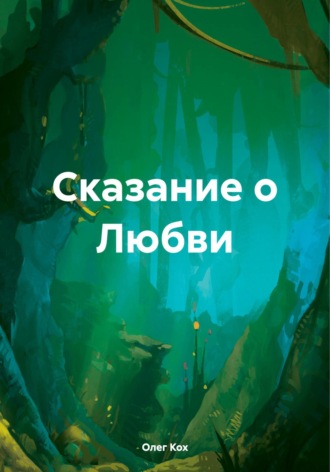
Полная версия
Сказание о Любви
Иерархическая структура предельно проста: начлет (начальник летной части) – Симонов Михаил Петрович; зам Симонова по летной части Борис Керопян (а по существу, – начлет, мы его так и звали и воспринимали, т. к. Симонов днем был занят в КБ и приезжал на аэродром только к костру и вечернему чаю попеть песни и отвести душу, и то не всегда); летчики-буксировщики; летчики-инструкторы; водители; спортсмены-планеристы; мы, начинающие планеристы, носившие гордое звание "курсант" (кроме нас с Виктором, свежеиспеченным курсантом был Валера Дарьин с двигательного факультета); аэродромный врач – студентка 5-го курса Казанского мединститута Алла и знаменитые летчики-испытатели, мастера спорта Пронин и Шайманов.
Не знаю, где, как и когда Михал Петрович научился летать и умудрился стать первоклассным летчиком, но он одинаково искусно пилотировал любой летательный аппарат нашего авиационного парка. В то легендарное время, а тем паче на заре отечественного авиа- и ракетостроения в порядке вещей было, что ведущие авиаконструкторы не только умели летать, но часто сами испытывали свои аппараты. Летающими были не только конструкторы. Некоторые наши институтские профессора, такие как Одиноков Ю. Г., Воробьев Г. Н., прошли в свое время основательную летную подготовку.
Простите, что отвлекся, ибо душа моя тянется к Михал Петровичу Симонову, которого все без исключения любили не как выдающегося Авиатора, а как выдающегося Человека. Помню, как он первый раз появился на аэродроме. Высокий, широкоплечий, правильно и гармонично сложенный, с умным, приветливым лицом. Если вы спросите, какое человеческое качество было главное в нем, я не задумываясь отвечу: это редчайшая скромность, растворенная во всем его существе. Именно эта сокровенная скромность определяла то неповторимое обаяние, которое, как магнитом, притягивало и располагало к нему людей. Если бы мы не знали, кто такой Симонов и что он для клуба, аэродрома, для всех его обитателей, то мы об этом никогда б не догадались. С Михал Петровичем, с его насквозь интеллигентным обликом никак не вязалось ничто, хотя бы отдаленно напоминающее начальника, администратора. Глядя на него, вы видели мечтательного, с любопытством созерцающего все вокруг себя человека с былинкой во рту и с полевым цветком в руке. Вы каким-то шестым-седьмым-десятым чувством провидели в нем все то богатство, которое дала ему природа.
Ну скажите на милость, каким образом в человеке могут совмещаться такие несовместимые качества? Как мог этот, казалось бы, мягкий, застенчивый человек сделать то, что он сделал, создать то, что он создал? И ведь мы с вами знаем, чего стоит в нашей непрошибаемой, пропитанной завистью и карьеризмом бюрократической системе создать что-то новое, да еще и требующее такого огромного финансовоёмкого хозяйства. Но если хорошо подумать, то только такие, настоящие, бескорыстные, с могучим творческим потенциалом, сильные духом и чистые сердцем люди и способны на такие дела.
Михал Петрович и на аэродроме создал такую теплую, доверительную обстановку, что каждый работал, что называется, не за страх, а за совесть. Никакой казенщины, никаких начальнических замашек, дисциплинарных канонов и связанных с ними скованности и искусственности в отношениях и внутренней напряженности, – все спокойно и доброжелательно, но четко и деловито. А ведь все, что связано с летным делом, требует строжайшей дисциплины и субординации, не допускает ни малейшей расхлябанности и тем более разгильдяйства. Можно только удивляться, как в такой демократической атмосфере, где в воздухе витали юмор и улыбка, без обычных в таких структурах отношений "начальник – подчиненный" обеспечивались высокое качество и безопасность полетов. Я никогда не видел, чтобы кто-то что-то кому-то докладывал, чтобы кто-то кого-то отчитывал. Утром короткое построение, выдача заданий, медосмотр и – по машинам. В конце полетного дня – разбор полетов, по-деловому высказанные замечания, и, довольные рабочим днем, все расходились в ожидании не менее приятного вечера. Когда приезжал начлет Симонов, обстановка не только не делалась скованной и напряженной, но, напротив, становилась теплой и радостной. Сколько незабываемых вечеров провели мы у костра, сколько спели задушевных песен, как перекликались наши души.
Нас троих прикрепили к летчикам-инструкторам (мой – Юра Логинов) и к двухместным учебно-тренировочным планерам КАИ-12 (другое название "Приморец" он получил в Коктебеле на всесоюзном планерном соревновании, где зарекомендовал себя как простой в управлении и архинадежный планер-паритель), и мы начали работать. Сначала изучили матчасть (материальную часть – устройство планера), потом прошли наземную подготовку (т. е. научились "летать на земле" – имитировать полет). И вот – первый ознакомительный полет в "зону" на высоте 800 – 900м, где Юра принудительно свалил планер в штопор (аварийная фигура высшего пилотажа) и показал, как выходить из него, – полный восторг! Затем начались тренировочные полеты по кругу, (точнее – по "коробочке”, т. е. по замкнутому прямоугольнику). Как говорили во все времена, хочешь стать летчиком, отработай "взлет-посадку". Как ни странно, самым трудным был не собственно полет на планере и даже не посадка – очень ответственный элемент, – а взлет и полет на буксире за самолетом ЯК-12. Самый трудный, но и самый интересный отрезок полета.
Необходимо пояснить некоторые особенности летательного аппарата под названием планер-паритель. Взлететь самостоятельно он не может, т. к. у него нет двигателя. Поэтому чтобы подняться в воздух хотя бы на какую-то минимальную высоту, ему нужен самолет-буксировщик. Обычно буксировщик поднимает спортсменов-планеристов на 800 – 900 м. Затем они отцепляются от маячащего впереди и мешающего обозревать небесные красоты, да еще и назойливо рокочущего самолета и начинают благоухать, то бишь блаженствовать. Но чтобы продлить это блаженное состояние, им нужно позаботиться о наборе высоты (запастись высотой), ибо планер хоть и может парить, как птица, но, в отличие от неё, не может махать крыльями для набора высоты, а вынужден искать восходящие воздушные потоки. Поэтому после отцепки планеристы не спеша осматриваются вокруг, примечают белое кучевое облако с темной подошвой и направляют свой чудо-аппарат прямо под это спасительное облако, под его темное основание. Затем, нащупав восходящий поток под облаком и определив по прибору его силу, закладывают вираж и, вращаясь по спирали, начинают набирать высоту. "Заправившись" высотой, как топливом, уходят по заданному маршруту. Выполнив маршрут, возвращаются в родные пенаты, т. е. на свой аэродром.
Планер, в отличие от самолета, имеет не три, а две точки опоры, но если у самолета этими тремя точками являются колеса, то у планера – одно колесо и костыль (типа рычага) в задней части фюзеляжа. Поэтому третьей точкой опоры на аэродроме служит крыло (на стационарной стоянке планер надежно привязывается в трех точках: две под обеими половинами крыла и одна на хвосте, иначе унесет ветер), и планер находится в наклонном состоянии, а перед взлетом кто-то должен поддержать аппарат в горизонтальном положении до тех пор, пока поезд из буксировщика и висящего за ним на веревке планера не тронется с места. А дальше пилот-планерист берет управление судном в свои тонкие, суперчувствительные руки и начинается кайф.
Здесь скажем еще об одной особенности планера: о его более высоком по сравнению с самолетом качестве крыла. Поэтому планер взлетает гораздо раньше самолета, практически сразу после начала разбега, и планерист должен урезонивать своего не в меру резвого коня, т. е. удерживать планер на небольшой высоте, чтобы он, взмыв, не опрокинул буксирующий его самолет. И вот это – самый эффектный, захватывающий отрезок взлета, когда ты идешь на бреющем полете на все увеличивающейся скорости и ручкой управления прижимаешь планер к земле до тех пор, пока буксировщик не оторвется от земли. А дальше, пока самолет набирает высоту и набирает скорость, идет ювелирная работа по управлению планером, когда нужно удерживать аппарат в строго определенном относительно буксировщика положении, не допуская ни малейшего провисания буксировочного троса. Это архисложно, но и не менее интересно. На высоте 300 м по сигналу буксировщика (покачивание крылом) курсант производит отцепку и, выполнив полный круг, т. е. построив "коробочку", заходит на посадку. И вот, чтобы заслужить право вылететь самостоятельно и тем самым превратиться из курсантов в спортсменов, нам и предстояло отработать с инструктором до автоматизма все названные элементы. Затем контрольный полет с начлетом Борей Керопяном, первый самостоятельный полет, и ты – спортсмен-планерист. Но для этого нужно было пуд соли съесть.
А пока мы предавались всем прелестям аэродромной жизни. Первую половину дня летали, а другую половину и выходные посвящали не менее приятному досугу. Один день в неделю был предназначен для обслуживания матчасти, т. к. специальный технический персонал для этого предусмотрен не был. Любишь кататься – люби и саночки возить.
Досуг наш был настолько разнообразен, интересен и даже криминален, что об этом надо рассказать отдельно. Я уже говорил, что по вечерам мы часто пели песни у костра, и по умолчанию ни у кого не возникало вопроса, где? Всем было ясно, что на аэродроме. Совершенно верно, но только отчасти. Ибо чаще всего песенные костры мы разжигали в Школе юных космонавтов. Ничего себе загнул, скажете вы, школа, да еще и космонавтов! Что еще за школа такая, подпольная?! Не достаточно ли для экзотики, и чтобы поразить воображение обывателя, аэродрома с самолетами и планерами? Вижу, что заинтриговал вас не на шутку. Ладно, удовлетворю ваше любопытство, самому не терпится поскорее раскрыть интригу.
Видите ли в чем дело: для нормальных людей – интрига и даже перебор: Аэродром плюс Школа. Так это для нормальных, но не для Симонова. Я, выросший в здоровом в нравственном отношении селе, признаться, и понятия не имел, что практически в каждом населенном пункте существует определенная категория детей и подростков, отбившихся от рук родителей (а есть и сироты, и бездомные) и прибранных другими, более "заботливыми" руками всяческого уголовного элемента, и уже состоящих на учете в милиции. Вот для таких Михаил Петрович и организовал школу так называемых трудновоспитуемых и дал ей привлекательное название "Школа юных космонавтов". Ну скажите, для чего ему это было нужно, что, у него забот мало?! Об этом вы подумаете на досуге, а пока о том, как мы жили бок о бок с обитателями этой школы.
Школа эта располагалась сразу за аэродромом в уютной, укрытой зеленью лощине – не сразу и обнаружишь, – и на первый взгляд представляла собой обычный пионерский лагерь, и по структуре, и по распорядку дня. Но в отличие от пионерлагеря, красных галстуков здесь никто не носил, ибо не было в этом лагере пионеров. Весь персонал от начальника Школы до воспитателей, поваров и обслуги был подобран из людей, не только интеллигентных и деликатных, но и умеющих жить и работать с мальчишками и девчонками, ну о-очень трудно поддающимися воспитанию. А воспитание-то и состояло в том, что никто никого специально не воспитывал. Просто жили бок о бок взрослые и дети, обитатели Школы и обитатели Аэродрома. Вместе работали и вместе отдыхали. Утром ребята приходили на аэродром, в меру сил помогали на старте. Часто их брали в полет спортсмены-планеристы (в "Бланике" – два места). После полетов мы все шли на обед в их Школу. Столовая была устроена прямо на свежем воздухе под брезентовым навесом за длинными деревянными столами. Потом все расходились по своим делам до вечера, а вечером снова собирались за хлебосольным школьным столом. А после ужина – всеми ожидаемый костер, где с равным успехом звучали наши студенческие песни и блатные песни юных космонавтов, особенно двух Мишек.
Вспоминаю о них со слезами умиления и какого-то ранее не испытанного счастья. Два Мишки, два закадычных друга, два неразлучных брата. Приблизительно одного возраста, от силы два-три года разницы, скажем, 12 и 14. Но один – высокий и физически сильный, прямой и незамысловатый, эдакий увалень и тугодум. А другой маленький, шустрый, с некоторой хитрецой и очень умным, красивым и, я бы даже сказал, тонким лицом. Их так и звали: Мишка Большой и Мишка Маленький. Они не были обременены никакими правилами и условностями, вели себя просто и естественно, свободно и независимо и были преданы друг другу беззаветно. Мишка Большой, с виду грубый и неотесанный, обнаруживал к Мишке Маленькому столько любви и нежности, что оберегал его, как малое дитя, и готов был за него глотку перегрызть, о чем так прямо и предупреждал. Мишка Маленький весьма прилично играл на гитаре и знал кучу блатных песен, многие из которых я перенял от него. Одна настолько мила моему сердцу, что я ношу её в этом чувствительном органе вот уже несколько десятков лет: "Подарил мне дедушка рубашку, сорок лет которую носил. В этой рубашке завелись букашки, старик убивал же всех ногтем…"
Мы быстро и крепко подружились, испытывали потребность друг в друге и были неразлучны; впрочем, мне иногда казалось, что Мишка Большой ревнует ко мне Мишку Маленького: треугольник незыблем и устойчив только как геометрическая фигура, а в человеческих отношениях, особенно когда дело касается душевных привязанностей, нет ничего драматичнее и опаснее триумвирата. А как загорались у них глаза при виде самолетов и планеров, и как были они захвачены аэродромной жизнью! Когда отправлялись в полет с кем-то из спортсменов-планеристов, были серьезны и сосредоточены, как будто отправлялись на выполнение боевого задания и только от них зависела судьба оставшихся на аэродроме. А возвращались тихие и торжественные, будто побывавшие в других мирах и боявшиеся расплескать приобретенные там драгоценные впечатления. Никто даже не пытался нарушить это их сомнамбулическое состояние. Расставались мы в конце полетного сезона, без преувеличения, со слезами. Я хотел бы добавить, что это было первое, теплое дыхание неведомого мне уголовного мира, со своим языком, повадками и манерой поведения. С настоящими уголовниками мне предстояло еще встретиться, что называется, лицом к лицу.
Как видите, жили мы на аэродроме большой дружной семьей в атмосфере дружбы, любви и постоянной взбудораженности чувств. Не обошлось и без легкой влюбленности. Вероятно, я бы не осмелился обнаружить свои чувства к Алле, если бы не заметил с ее стороны расположения ко мне. Всегда психологически трудно вступить в близкие отношения с должностным лицом, от которого ты находишься в некоторой зависимости. Алла была врачом в Школе и на аэродроме, и я, проходя каждое утро медосмотр, от которого зависело, летать мне сегодня или "загорать" на старте, невольно испытывал некоторый трепет. Как бы там ни было, сближение состоялось, а вместе с ним и калейдоскоп чувств, это сближение сопровождающий. Слава Богу, что мы не перешли ту необратимую грань, ту точку невозврата, когда невозможно ощущать себя человеком, не предприняв единственного в подобном случае действия.
Кто-то сказал мне, что в Аллу не на шутку влюблен наш аэродромный водитель Женя А. Женя был скромный, немногословный, очень деликатный человек, не способный "выяснять отношения". Мы симпатизировали друг другу, но он и намеком не дал мне понять, что у них с Аллой не "флер" и не "флирт", а нечто более серьезное. Я вообще старался никому не переходить дорогу в таких случаях, тем более товарищу по аэродромному братству (я даже не знал, что Женя как раз в это время "вводился" как летчик-буксировщик, – настолько он был скромен), и не задумываясь отступил с занятых позиций. Ближайшей зимой Женя с Аллой сыграли свадьбу, и это было правильно, потому что Женя был настоящий человек и рыцарь без страха и упрека. И я там был, мед-пиво пил…
Скажите-ка мне, какой творческий коллектив, к тому же романтически настроенный, может обойтись без авантюристических предприятий, без криминальных деяний. А мы, кроме всего прочего, были молоды и были заряжены колоссальной энергией (наша жизнь протекала на таком подъеме, на такой высоте, что энергия не растрачивалась, а, наоборот, накапливалась), которую нужно было куда-то девать. Но если вы подумаете, что мы пустили это дело на самотек и предоставили каждому аккумулятору разряжаться по собственному усмотрению, то будете глубоко неправы. Мы же не анархисты, где бал правят анархия и произвол, а серьезная организация, где царствуют дисциплина и порядок. Короче, мы учредили две бригады: бригаду охотников, где бригадиром был назначен начлет Борис Керопян, и бригаду сборщиков яблок, бригадиром которой назначили меня, поскольку яблоневого сада я в своих казахских степях и в глаза не видал, в порядке знакомства, так сказать. Вы спросите, ну и что ж тут авантюристического и тем более криминального? А дело в том, что бригады-то были не простые. Бригаде охотников было предписано охотиться не на диких гусей, а на домашних, а вторая бригада должна была не собирать яблоки по комсомольской путевке или по колхозной разнарядке, а воровать их в колхозном саду под глубоким покровом ночи, той самой поры, когда и проворачиваются подобные деликатные дела. Некоторым оправданием наших деяний служило то, что гусей в оврагах и в пойме местной реки бродило видимо-невидимо, сосчитать которых не было никакой возможности, да никто этим и не занимался, т. к. гуси, как правило, уходили из дому в начале лета, а возвращались поздней осенью, так что на это время вполне становились дикими. Это я знаю еще по своему незабвенному детству. А яблоки в колхозах, как правило, не успевали убирать: других, более важных дел невпроворот.
Первая бригада отстрелялась быстро, откровенно (среди бела дня) и весьма успешно. Так что на ужин мы уплетали за обе щеки запеченного фирменно, особым древним способом в глине, крупного, упитанного гуся, с которого корка обожженной глины отваливалась вместе с перьями, как скорлупа с грецкого ореха. На следующий день, а точнее, ночь настала наша очередь отличиться и доставить к обеду десерт. Темной, глаз выколи, безлунной ночью мы отправились на промысел. Путь наш лежал через кладбище, сразу за которым начинался сад. Расчет наш был прост и дерзок. Сад не случайно примыкал к кладбищу. Какой нормальный, к тому же суеверный человек дерзнет нарушить покой усопших и пойдет грабить через юдоль упокоенных, где мертвые с косами стоят?.. Сначала дела шли неплохо, мы привыкли кое-как к темноте и на ощупь набили висящие на пузе рюкзаки. Я стал звать ребят. В частности тихо, как мне казалось, окликнул Витю Ермакова: "Витя, ты набрал?" Витя, подходя ко мне вплотную, ответил: "Набрал, конечно", – и схватил меня за рюкзак мертвой хваткой. Мне ничего не стоило сбросить рюкзак с яблоками и пуститься наутек. Но молнией пронеслось в башке, что в переднем клапане рюкзака спокойно, на своем обычном месте лежит мой паспорт. И я покорно, без всякого сопротивления поплелся за самозваным "виктором".
Дальше была сплошная стыдуха. В правление колхоза, где я сидел под "арестом", приехал на "газике" Боря Керопян и, не говоря ни слова, "выкупил меня" у председателя колхоза за бутылку коньяка. Столько стоили тогда погромщики колхозных садов. Хоть какая-то прибыль колхозу от яблоневого сада. А начлет Боря Керопян еще и пытался меня утешить. Лучше б отматерил: не за понюх табаку накрылась бутылка коньяку. Но в том-то и дело, что Боря не владел русским фольклором, а если и владел, то никогда не пользовался. Обладая тонким юмором и иронией и имея в арсенале множество шуток и не одну забавную историю, он был первоклассным летчиком и мастером спорта и многое умел: руководить, не руководя, быть настоящим другом и в любой момент прийти на помощь. А вот материться не умел или не хотел. Одно утешение, что его копилка пополнилась еще одной забавной историей, к тому же – криминальной.
Между тем жизнь наша на аэродроме продолжалась в том же ключе. Мы, курсанты, уже довольно уверенно летали с инструктором, отработали взлет-посадку, научились летать на буксире и были готовы к контрольному полету с Борей Керопяном. Но буквально накануне прошел слух, что экзаменовать нас будет сам Симонов. Хорошо помню, как мандражировал перед ответственным полетом: одно дело петь песни у костра и совсем другое "блеснуть мастерством". Михал Петрович подошел ко мне и скромно, с обычной своей застенчивой улыбкой спросил: "Возьмешь пассажиром?" И мандраж как рукой сняло: "Так тому и быть: надевайте парашют и – на место второго пилота!" Привычно, заученно взлетели, набрали высоту, а после того, как отцепились и можно было расслабиться, Михал Петрович сказал: "Ну что, споем?" И мы запели дуэтом одну из наших песен: "Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, да и сам я не святой: я сам ее толкал на поворот, я сам толкал ее на поворот…" (Ю. Визбор). Да и то сказать, отчего бы и не спеть, когда поет душа, а за бортом тихо и задумчиво шуршит по обшивке фюзеляжа неугомонный ветер…
Вот и подошел к концу летный сезон. Как жалко и невыносимо грустно было расставаться с аэродромом, со Школой, с ребятами, с теми, с кем сросся всеми своими потрохами, всеми фибрами души. Это был мой "Город Солнца", пронизанный каким-то радостным, волшебным светом, пропитанный любовью, дружбой, братством. Такого светлого пятна, такого способа существования, такого образа жизни, как в те далекие, неизвестно куда и зачем унесшиеся времена моей туманной юности, где было абсолютно все, что необходимо человеку для полного счастья: любимое дело и верные друзья, – не было больше, пожалуй, на моей жизненной дороге.
До начала занятий оставались считанные дни, но я не мог не полететь в родные пенаты на благоприобретенных крыльях. Уж слишком тяжел и обременителен был груз чувств и впечатлений, накопленных мною в это полное чудес лето. Но все эти чувства и впечатления, переполнявшие все мое существо и не оставлявшие, казалось, ни единой клеточки для других чувств, заслонило тем не менее одно событие, подкравшееся ко мне совершенно неожиданно, как бы исподтишка, и поэтому заставшее меня врасплох.
…Я встретил Люсю С. – подругу своего детства, казалось, уже пережитого и поэтому забытого и канувшего в Лету. Ну и что здесь особенного: я встречался в этот свой приезд и с другими девчонками из их знаменитого класса. Я говорил в первых главах моего сочинения, что мы с самого раннего детства существовали в парном исполнении "жених – невеста". В таких устойчивых парных сочетаниях мы варились в одном котле и, следовательно, знали друг о друге все. Напомню, что Люся С. была "невестой" моего друга и одноклассника Гриши С. Но не зря говорят, что неисповедимы пути Господни. Часто мы не знаем и не подозреваем даже, какие тайные нити связывают того и другого человека, какие невидимые, но тем не менее живые существа (скажем, флюиды) кочуют из одной души в другую, какие неведомые мыслеобразы, не обнаруживая себя, фланируют из одной головушки в другую (кажется, это называется подсознанием). И все эти мыслеобразы и флюиды никуда не деваются, они живут где-то глубоко на дне, в тайниках души и сознания, иной раз обнаруживая себя при каком-то совершенно случайном стечении обстоятельств, а чаще, сохраняя свое инкогнито.
Что случилось с нами (со мной и с Люсей) на этот раз, я не знаю и не могу объяснить? Думаю, что никто не смог бы. Ведь мы столько раз встречались уже после нашего детства. Я каждый раз с удовольствием посещал по приезде их дружную семью (Люсин отчим Иван Иванович к тому же был моим первым учителем), и ничто не шевелилось в наших душах. Стоп! Так уж и не шевелилось? А зачем тогда "каждый раз посещал", да еще и с "удовольствием?" Неужто только из-за Иван Иваныча? А вспомни, как в детстве ходил к ним якобы за художественными книжками и даже оконфузился. Что, не мог взять книжки в библиотеке? Признайся: из-за неё ведь ходил. Да еще в тайне от друга Гришки. Она предложила тебе тогда несколько книг на выбор, а относительно одной из них спросила: «Читал "Весна на Одере?" Я только что прочла, мне очень понравилось». Тебе стыдно было, что она прочитала столько книг, а ты, невежда, безнадежно отстал от неё в развитии, и ты небрежно переспросил: "Весна на озере? Конечно, читал! Классная книжка!" Ей стало неловко за тебя, и она тихо поправила: "Не на озере, а на Одере – река такая в Германии". Ты покраснел до корней волос и, разгоряченный, стал запальчиво отстаивать свои позиции: «Может быть, есть "Весна на Одере", а я читал именно "Весну на озере!» И, чтобы не сочли вруном, стал даже расписывать, какая она, весна на озере… И тебя все несло и несло и неизвестно, куда бы занесло, если бы ты случайно не взглянул на неё и не увидел, что она стоит и молчит и с жалостью смотрит на тебя. И такое безысходное отчаяние, перемешанное с жгучим стыдом охватило тебя, что ты готов был провалиться в тартарары. И ты понял, что погиб для неё навсегда. Тебе на первых порах было стыдно не то что поглядеть ей в глаза, но даже пройти мимо, и ты долго обходил её стороной. Но время лечит, особенно в таком "невинном" возрасте, и вскоре ты смог посмотреть на это даже с юмором. Вот ведь как! А ты говоришь – подсознание… Нет дыма без огня!



