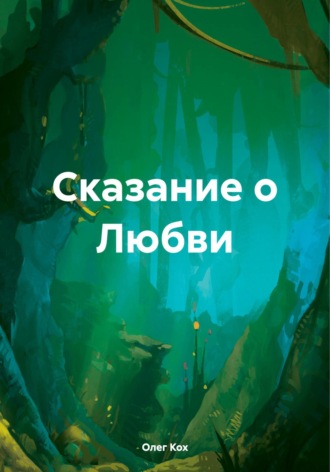
Полная версия
Сказание о Любви
Как же я умудрился заразиться этой болезнью? Как-то, вернувшись из колхоза, я услышал недалеко от нашей 309-й звон гитары. Греющие душу звуки раздавались из крайней, в конце коридора у окна, комнаты. Недолго думая, постучался и, войдя в комнату, увидел мужчину с гитарой. Им оказался студент шестого курса Виталий Баулин. Среднего роста, коренастый, с мужественным, волевым лицом, не расположенный к праздным разговорам, он казался гораздо старше нас, второкурсников. Еще до знакомства с Баулиным я понаслышке знал, что он вожак туристской группы, классно играет на гитаре, знает кучу песен и сам сочиняет. Узнал я также, что в свой сложившийся за годы учебы туристский отряд старшекурсников он никого постороннего не берет.
До сих пор не могу понять, как мне удалось проникнуть сквозь ореол суровости, неприступности, таинственности этого лесного волка, как вообще могли сойтись два столь разных человека. Тем не менее это произошло. Произошло не сразу, постепенно. Важно, что, когда я попросил взять у него несколько уроков игры на гитаре, он меня не оттолкнул, несмотря на мое вероломство и на дефицит времени, связанный с работой над дипломом. Виталий научил меня нескольким приемам игры на этом сложном и красивом инструменте, которыми я пользуюсь до сих пор, несколько расширил мой арсенал аккордов. Но добиться столь виртуозной, мелодичной игры, когда гитара пела и говорила буквально человеческим голосом, мне так и не удалось, – то ли не хватило настойчивости и упорства, то ли в силу поверхностности и непритязательности, мол, и так сойдет, а скорее – все вместе. Зато привязанность друг к другу и необходимость друг в друге мы ощущали все больше и больше.
Виталий поверял мне даже свои сердечные тайны. Он был безнадежно влюблен в безнадежно больную врожденным пороком сердца девушку. Мы часто бывали у нее в гостях. Она, разумеется, знала, что обречена, но никогда и виду не подавала. Напротив, она была неизменно приветлива, весела и даже беспечна. Будучи начитанной и обладая изобретательным умом, она придумывала всякие головоломки и интеллектуальные игры, была великолепной рассказчицей. А если добавить ко всему редкую, всеобъемлющую красоту, то Виталия вполне можно было понять: в эту дивчину просто невозможно было не влюбиться, так же как невозможно было понять, откуда в этом хрупком, изящном существе такая неиссякаемая воля к жизни, не позволяющая ей расслабиться и сникнуть. Именно благодаря этой внутренней силе она не позволила себе ответить Виталию взаимностью, хотя симпатия к нему была налицо.
Преддверие ноябрьских праздников. Настроение приподнятое: мы, как и все нормальные люди, готовимся достойно встретить день 7 Ноября. Нет, не повышенными соцобязательствами, не выдающимися успехами в учебе, не досрочной сдачей курсовых работ и проектов – для таких подвигов даже у отличников духу не хватило бы. Мы, студенты второго курса, уже успевшие вкусить простые земные радости, познать вкус к напиткам и вкус напитков, научиться готовить и накрывать праздничные столы, приводим в порядок комнату, меняем постельное белье, натираем мастикой паркетные полы, устраиваем постирунчики в общежитской прачечной, гладим брюки и рубашки (костюмы обычно национализировались и становились общественным достоянием: сходить в театр, на свидание…), кто-то уже успел сходить в баню, другие решили ограничиться общежитским душем – одним словом, идет предпраздничная суета, чтобы не сказать – суматоха.
И вдруг эту суматоху прорезали, взорвали звуки какой-то бодрой маршевой песни под ликующий аккомпанемент непонятно чего, как будто бы оркестра. Мы, сбивая друг друга с ног, ринулись на эти будоражащие душу и заставляющие прыгать сердце звуки и увидели следующую картину: на широкой лестничной площадке между вторым и третьим этажами полукругом расположилась группа ребят и девчат в штормовках и телогрейках с рюкзаками за спиной, впереди которой посредине – Леша Соколов с баяном, а по обе стороны от него Виталий Баулин и еще кто-то (не помню) с гитарами, и в едином порыве возносит к небесам и разносит по всем закоулкам общаги то ли марш, то ли гимн, то ли мощный призыв: "Собирайся, друг-турист, опять в дорогу, тебе с нами будет лучше, чем в раю…" Потом еще и еще в том же духе. А на сбегающей вниз лестнице, на площадках её и перилах, побросав все приготовления к празднику и отложив все неотложные дела, повисли, сгрудились, столпились все обитатели общаги. Было такое ощущение, что страна под звуки марша "Прощание славянки" провожает на подвиг своих питомцев, своих добровольцев, своих сынов и дочерей. Не знаю, как у других, но у меня грудную клетку распирало от гордости и восторга, и сердце готово было лететь вслед за ними. Так провожала общага свой единственный на первом факультете передовой отряд этих неугомонных, особой закваски людей в турпоход в марийские леса. Как я завидовал им тогда! А отряд в боевом порядке, пешим строем, с песнями двинул на ж/д вокзал к двадцатидвухчасовому поезду "Казань – Йошкар-Ола". И перед ним почтенно расступались машины, кони, люди и даже трамваи.
Можно с уверенностью сказать, что опасный вирус я подцепил не в первом своем турпоходе, а именно тогда во время бурных и необычных для меня проводов. Между тем для группы Виталия Баулина и для общаги это был обычный и посему привычный ритуал. По возвращении Баулина из похода я стал буквально приставать к нему, возьми, мол, в поход. Он не вполне определенно пообещал, что как-нибудь возьмет. Но он не взял меня ни на День конституции, 5 декабря, ни на Новый год и довел меня до такого неистовства, что я готов был порвать с ним всяческие отношения, о чем прямо ему и заявил. Шантаж, очевидно, подействовал, и он сказал, чтобы я готовился к 8 Марта.
К походу я решил готовиться самостоятельно и купил большой с боковой шнуровкой рюкзак, который, как потом выяснилось, был громоздкий и очень неудобный: не прилегал к спине, а почему-то постоянно сползал на зад. Зато в нем свободно помещалась гитара. Правда, настоящие туристские рюкзаки, например, прославленный абалаковский, как и штормовки, были в дефиците. Удалось достать только туристские ботинки. Вместо спальников брали тогда в поход обычные шерстяные одеяла. Я купил продукты, которые поручил мне Баулин, и перед выходом зашел к нему в комнату с уложенным рюкзаком. Он молча снял с меня рюкзак, вытряхнул из него все содержимое на пол и дал мастер-класс укладки сего главного атрибута принадлежности к туристскому племени. Одеяло, плоско сложенное, он размазал по стенке рюкзака, прилегающей к спине, на дно положил картошку, консервы и прочие тяжелые вещи, сверху – одежду и посуду. Сравнив по весу наши рюкзаки и обнаружив, что мой раза в три легче, я возмутился и потребовал сделать перезагрузку. Виталий спросил, уверенно ли я стою на лыжах, и когда я сказал, что на лыжах научился ходить раньше, чем без лыж, он добавил мне для отвода глаз пару килограммов, но не из своего, а из рюкзака, предназначенного девчонке.
Дальше последовал уже описанный торжественный, полный восторга ритуал, но я был теперь не зрителем, а законным и счастливым участником его. Мы прошли строем и с песнями до ж/д вокзала (минут 40 – 50). Впереди гитаристы и красавец Леха с баяном в лихо заломленной казацкой шапке, из-под которой вились неукротимые кудри. В Лехе вообще всегда все было лихо. И нам действительно уступали дорогу люди и машины и приветливо махали вслед: женщины платками, машины крыльями. Потом мы с деловым и вместе с тем с торжественным шумом растеклись по вагону с сидячими скамейками и с сетчатыми полками, на которые взгромоздили лыжи и рюкзаки, а позже, наоравшись до одури песнями, и сами взгромоздились на эти полки и забылись в кратковременном сне. Я был приятно удивлен, что кроме нас, в вагоне оказались и другие, но из того же теста любители приключений.
Если б вы знали, как неохота было покидать теплый уютный вагон и в полудремотном состоянии окунаться в черную стылую ночь на каком-то заброшенном, забытом богом полустанке (кажется, это был Суслонгер). Как противоестественно, иррационально было надевать лыжи и в кромешной тьме плестись по страшному лесу, незнамо куда и зачем, боясь отстать от впереди идущего. Мне никогда доселе не приходилось ходить на лыжах с рюкзаком за спиной. Оказывается, это не так-то просто: тебя болтает из стороны в сторону, как перевернутый маятник, и, с точки зрения механики, это самая неустойчивая форма равновесия, когда центр тяжести находится гораздо выше точки опоры.
Рюкзак вдруг превратился в живое существо, бросающее меня туда-сюда и норовящее опрокинуть. Поэтому все мои силы и мысли были направлены на то, чтобы не дать маятнику качнуться за критическую точку и коварному наезднику повергнуть меня ниц. Если на горизонтальных участках я как-то приноровился удерживать равновесие, то на спусках, отчаянно бросая себя на авось в непроницаемую, кромешную тьму, неизменно и низменно падал, так отчаянно зарываясь в снег и так позорно барахтаясь в нем без всякой надежды выбраться, что меня приходилось откапывать ребятам и, что совершенно невыносимо вспоминать, – девчатам; при этом они меня еще и пытались успокоить. Вряд ли я когда-нибудь еще испытывал такой стыд и вряд ли когда-нибудь еще так сильно страдало мое самолюбие!
Казалось, этим мучениям не будет конца. Я знал только, что цель нашего паломничества – озеро Светлое, но как долго туда идти, не имел ни малейшего представления. Между тем начинал брезжить поздний зимний рассвет, а это значит, что мы шли уже более шести часов. Шесть с лишним часов невыносимых мучений, больше моральных, нежели физических. И, скажите на милость, ради чего все это?! Лежал бы сейчас в теплой постели и смотрел радужные сны! И уже ничего нельзя изменить: не повернешь ведь обратно. Единственной светлой и утешительной мыслью было озеро Светлое, которое, как мираж в пустыне, мерцало где-то на задворках помутненного сознания и которое сулило избавление от мук. Вдруг впереди, в трех шагах, возникла избушка. Мелькнула мысль: а где же озеро? И следом другая: на кой тебе озеро, ты что купаться собрался или рыбу ловить? Вот тебе избушка на курьих ножках, чего тебе еще нужно! И пусть она пока еще продрогшая, нетопленая, но уже весело стучат топоры в лесу, в избе зажигаются свечи, по стенам бродят фантастические тени, вынимаются продукты из рюкзаков, а это значит, что скоро будет не только тепло, но и сытно, что пришло избавление и что не все так уж плохо в этой жизни.
И действительно, после первой же кружки выпитого вина жизнь представилась не только "не так уж и плоха", жизнь оказалась ну просто восхитительна, такая, которой раньше никогда и не было. Какое счастье видеть за грубым деревянным столом, уставленном мисками с необыкновенно вкусным, густым – ложку не провернуть – супом и кружками с не менее вкусными и греющими душу напитками, в мерцающем огне свечей, под аккомпанемент весело потрескивающих дров в печи, такие родные, улыбающиеся, симпатичные лица ребят и девчат. А когда Виталий Баулин ударил по струнам, и полилась в унисон с душевными струнами звучащая песня, счастье вообще перехлестнуло через край. Одно за другим следуют теплые, приправленные добрым юмором, поздравления девчат с весенним праздником в словесной и в песенной форме. Кругом на десятки километров глухая тайга, а мы сидим в теплой избушке за праздничным столом, пьем вино, курим сигареты, и песни будто сами собой непроизвольно льются изнутри. Куда девались уныние, трудности многокилометрового перехода. А может быть, они и нужны были для того, чтобы острее почувствовать счастье, неповторимую романтику и величие момента?
Утро встретило нас поистине сказочной картиной: величественным лесом, сияющим уже по-весеннему солнцем и ослепительно белыми снегами.
Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
(Ф. Тютчев)
А где же обещанное озеро? Как где, не видишь: вон тропинка к нему протоптана. Бегу по тропинке, которая через несколько десятков метров приводит меня к большой снежной поляне. Если бы не прорубленная в полуметровой толще льда прорубь и не вытоптанная вокруг нее площадка, то никто бы не догадался, что большая снежная поляна – и есть озеро Светлое. А вокруг озера сверкают яркой зеленью отдельно друг от друга стоящие пушистые молодые сосёнки, как будто только что выскочившие из леса полюбоваться искрящимся, волшебным озером. После завтрака и кое-каких дел по хозяйству мы отправились на озеро всей честной компанией. Солнце разгулялось не на шутку, так что кое-кто из мужиков не удержался и полез в прорубь совершать ритуальное омовение. Остальные представители бородатой половины человечества довольствовались тем, что приняли первый весенний загар, правда, только до пояса сверху.
Наслаждаться такой жизнью, переполняющей через край всё твое существо, среди дикой, сказочной красоты природы отпущено нам было совсем немного. Вряд ли нужно говорить, как печально было расставаться с лесом, озером, избушкой. На исходе третьего дня мы двинули обратно на ночной поезд "Йошкар-Ола – Казань". Все отразилось, как в зеркале. Очевидно, мы зарядились на лесном озере какой-то волшебной энергией, потому что обратный путь оказался легким и незаметным. Перед мысленным взором непрестанно вращался калейдоскоп из лесных пейзажей, картинок лесного быта, горящих свечей и горящих глаз, в голове прокручивались и звучали строки из перепетых песен.
После похода Баулин сказал мне: "Считай, что я передал тебе эстафету. Собирай под своим флагом новобранцев и – в добрый путь. А мне осталось сыграть свою собственную свадьбу и… – на родину, в Улан-Удэ, в Улан-Удэ". С этими словами он вручил мне пригласительный билет на свадьбу.
Когда эмоции, вызванные первым походом, улеглись и душа успокоилась, я попытался проникнуть в тайну феномена под названием, скажем, "Назад к истокам, вперед к природе!" (прозвучало как девиз). Понять источник и силу его власти над существом с гордым именем "homo sapiens". С одной стороны, будто бы все просто: человек – часть природы и должен жить с ней в полной гармонии как одно целое. Должен, но ведь – не живет! Волк живет, а человек – не живет, не хочет. Подавай ему кучу обременяющих излишеств: карьеру, власть, деньги, комфорт, массу ненужных вещей. Мне тут же возразят: у волка нет выбора, а у человека есть свободный выбор – таким сотворил его Бог. Так что, значит, Бог виноват, и действительно: горе – от ума, и не нужно было лепить тварь по Образу и Подобию, ставить на две ноги и давать свободную волю, ибо, парадокс, именно свободная воля сделала её (тварь) несвободной? Да, именно так, ответит мне оппонент: дав волю, нужно было лишить Своё творение искушений и предметов этих искушений – соблазнов. Позвольте, тогда бы мы были марионетками, а какая уж тут свобода, когда тебя дергают за веревки. Вот и получился замкнутый круг. Нет, подвергать сомнению Провиденциальную политику Господа и Его Промысел – последнее дело. Не лучше ли обратить свой притязательный взор на тварь Божию, то есть на себя – любимого и непогрешимого. И посмотреть внимательно и вдумчиво на мир Божий вокруг тебя, на его обитателей, и в первую очередь – на людей светлых и красивых, достойных называться тварями Божьими. В конце концов, посмотреть на Самого Господа Иисуса Христа и на Его святых, прочитать в Евангелии об искушениях Господа в пустыне…
Видит Бог, не хотел я пускаться в проповеди – не мое это дело, ибо недостоин, и дидактика – не мой стиль, ибо бесполезно. Но так получилось, как говорят, занесло, и менять ничего не буду. Ну так вот: потянуло нас в леса. Какая сила и зачем? Ни комфорта, ни уюта, а часто это сопряжено с трудностями и опасностями. Исчерпывающий ответ дать не могу, могу предложить некоторые, не лишенные банальности догадки, так сказать, на интуитивном уровне. Сказать, что это была мода, поветрие, характерное именно для шестидесятых годов, – значит, ничего не сказать и не прояснить. Во-первых, оно (поветрие) не было повсеместным и всеохватным. Во-вторых, не в моде дело. А дело в том, что идеалы, к которым вольно или невольно стремится молодая, еще не заваленная мусором душа, не сходятся с тем, что происходит в официальной жизни. Мы не могли не заметить, что пропагандистскими средствами декларируется одно, а на деле происходит другое, что созидательная энергия молодых направляется в прокрустово ложе, что одной рукой нас призывают летать, а другой – подрезают крылья. Вот и потянулась молодежь к природе, к её первозданной красоте и чистоте, где нет двойной морали, нет лицемерия и вранья, где, прикоснувшись к природе, заряжаешься от неё всем позитивным, где, преодолевая даже бытовые трудности и неудобства, узнаешь цену настоящей дружбе, а в опасных ситуациях – тем паче. И альтернативная официозу самодеятельная песня возникла по той же причине, как пассивный протест. В то благословенное время такие слова как "карьеризм", – "мещанство" и такие явления как "вещизм", – "накопительство" звучали как ругательства, как приговор. Жить в общежитии, в одной комнате большой семьей считалось за благо. Душа тянулась к душе, жаждала общения, откровений, погружений в бездонные и необъятные миры. А что такое человеческая душа – это и есть уникальный, неповторимый, бездонный и необъятный мир. А сейчас студенты жить в общежитиях не хотят, снимают квартиры и, как старики или философы, желают пребывать в одиночестве. Но при этом – в комфорте, а не в бочке, как Диоген. И мыслей новых не рождают, а тем более откровений. Как злободневны нынче чаяния и отчаяние Федора Тютчева в стихотворении "Наш век":
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
"Впусти меня! – Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.."
Не откладывая в долгий ящик, я начал набирать добровольцев на своем курсе и в первую очередь в своей родной группе. При этом я, как бывалый турист, не жалея красок, расписывал все прелести туристской жизни, все чувства, эмоции и восторги, испытанные мною лично. За исключением, разумеется, негативных, которые, кстати, сразу забылись, будто их и не было. Желающих вкусить неизведанных плодов неизвестного древа оказалось больше, чем достаточно. А сколько достаточно, я и сам не знал и записал всех желающих, коих насчиталось душ двадцать пять, никак не меньше. Можете себе представить, что значит создать отряд новобранцев, которые еще ни разу не нюхали пороху? И что значит командовать таким отрядом, когда командир сам только раз был в походе и, кроме поросячего восторга, ничего не испытал и мало что смог понять в искусстве настоящей брани. С какой радостью и с каким чувством облегчения сбросил бы я с себя это бремя, ибо всегда легче подчиняться, чем командовать. Но коли взялся за гуж… Уж коль решил груздем назваться, то нет тебе альтернативы, как вмиг в корзине оказаться и съеденным быть в перспективе.
На первых порах нужно было проследить, чтобы все приобрели (на худой конец, одолжили у кого-нибудь на первое время) самые насущные, минимально необходимые в походе личные вещи: рюкзак, обувь, одежду, посуду. Хорошо, что мы успели побывать в колхозе и запастись телогрейками, старыми куртками, сапогами, привезенными, как правило, из дому. Шерстяные одеяла брали в поход свои, общежитские. Из посуды, которую успели наворовать в столовой, годились только алюминиевые ложки; миски и кружки нужно было купить в магазине или одолжить у рачительных девчонок. Общественную посуду (котел, которым служило мусорное ведро, поварешка), другие вещи (топор, фонарь и пр. мелочи), необходимые в походе, а также калькуляцию (так мы называли список продуктов) и ежедневное меню на весь поход я взял пока на себя. В дальнейшем этим должен был заниматься завхоз.
Иерархическую структуру и вообще модель управления отрядом мы, не мудрствуя лукаво, взяли у моего учителя Баулина, который, в свою очередь, позаимствовал её у воинского подразделения, придав ей иронический оттенок. Во главе отряда был "начальник", зам его по политической, то бишь питейной части – "пол-литрук”, зам по хозяйственной части – "завхоз". Бессменным и быстро набравшим необходимые для этой должности опыт и закалку пол-литруком стал Валера Филатов. Кто был первым завхозом не помню, не помню также кто был вторым, третьим и т. д. Эта должность, что называется, выпала в осадок, так как обязанности завхоза мы с Валерой прибрали к своим рукам. Она была заменена на должность штатного фотографа, которую добровольно и профессионально исполнял пятикурсник Саша Жевнов. Он перешел к нам из Баулинской группы.
Наш первый поход был приурочен к Первомайским праздникам. Никаких пышных проводов в общаге мы не устраивали, но на вокзал шли в походном порядке с бодрыми песнями. Путь наш лежал на то же самое озеро Светлое. Я заранее запасся довольно подробной километровой картой Марийской тайги и компасом и изучил маршрут. На карте все было просто, а на местности, в лесу, да еще в темноте ориентироваться было архисложно. Представьте себе: человек, выросший в казахских степях, едва увидевший лес, не обладая абсолютно никакими навыками ориентирования в лесу и хождения по карте, взялся вести группу по многокилометровому маршруту.
Довольно быстро я понял, что мы сбились с дороги (если вообще на ней находились?), но вида не подавал. Как ни в чем не бывало я останавливался на каждом перекрестке дорог и у каждого квартального столба, доставал карту и компас и пытался привязаться к местности – я все еще надеялся на некое чудо. Уже давно взошло солнце, уже перевалило через полдень, а мы все шли и шли, и дороге не было конца. Погода была прекрасная, весело светило солнце, природа просыпалась от зимней спячки, радостно и беззаботно щебетали птички. Настроение у ребят сначала было приподнятое, мы бойко шли по лесу, перекидываясь шутками, останавливались, фотографировались (помню фотографию, на которой одни стояли на наклонном бревне, другие, как атланты, подпирали его снизу).
Но постепенно ребята начали сникать: кто-то натер ногу, кто-то просто устал с непривычки. Стал раздаваться ропот: где же это проклятое озеро, когда же кончится эта бесконечная дорога и т. д. Я, как мог, успокаивал, увещевал ребят, но все было напрасно. Уже были распотрошены рюкзаки, вынуты продукты, которые можно было уплетать всухомятку, а на озеро не было даже намека: ни тебе ручейка, ни тебе самой захудалой лужицы с талой водой, откуда можно было хотя бы губы смочить. Послышались угрозы в полушутливой, полусерьезной форме: меня собирались повесить на первом суку, изжарить на костре и съесть и т. д. и т. п. Я как мог отбивался: "Дайте мне вывести вас на чистые, светлые воды Светлого озера, а потом делайте что хотите".
И вот уже в довольно-таки густых сумерках мы наткнулись на какое-то то ли болотце, то ли озерцо, густо заросшее высокой травой. Я торжественно объявил: "Вот вам и озеро Светлое! А вы роптали и сомневались! Эх, вы, Фомы неверующие!" Разожгли костер, поставили палатки, я сам, разувшись и отважно продравшись сквозь траву и трясину, зачерпнул воды, и жизнь снова заклокотала в нас и вокруг нас. И был обалденно вкусный ужин (он же завтрак и обед), и были бесконечные песни у костра под гитару, и все были бесконечно счастливы. А изнурительную дорогу длиною в 15 часов вспоминали с юмором и шутками. Правда, в дальнейшем от отряда в 25 человек осталось не больше пяти, но этот состав сохранился практически до конца учебы, кроме того, он пополнился новыми, более стойкими и надежными кадрами.
Не помню, каким образом мы с Витей Ермаковым узнали о существовании авиаспортклуба в нашем родном институте и не помню даже, каким образом мы стали членами этого клуба, но помню, что конца сессии и выезда на аэродром Балтаси ждали с нетерпением. И вот этот счастливый день настал. Да, представьте себе, в КАИ был собственный авиаспортклуб и собственный аэродром недалеко от поселка Балтаси и в ста километрах от Казани. Организатором и душой этого клуба был выпускник нашего института Михаил Петрович Симонов, в то время главный конструктор КБ СА (конструкторское бюро спортивной авиации), а в будущем – Генеральный конструктор знаменитого, легендарного КБ Сухого. Вот небольшая историческая справка, как я ее представляю по отдельным обрывочным сведениям. Симонов сначала, еще будучи студентом, создал студенческое конструкторское бюро, в котором разрабатывались легкомоторные самолеты и планеры. Потом это СКБ преобразовалось в упомянутое уже КБ СА, и к тому времени, когда мы вступили в клуб, КБ СА имело: а) собственный аэродром; б) авиапарк из шести или семи буксировщиков ЯК-12; в) приблизительно столько же спортивных планеров-парителей "Бланик" чешского производства; г) остальные планеры – разработки Симоновского КБ: несколько учебно-тренировочных КАИ-12 и, гордость нашего клуба, – КАИ-17 и КАИ-19, на которых можно было и парить, и выполнять фигуры высшего пилотажа; на них было установлено несколько мировых рекордов высоты и дальности полета; д) автопарк, включающий бензозаправщик, грузовик для хозяйственных нужд и внедорожник ГАЗ-62; е) Школу юных космонавтов. Кроме того, на аэродроме был одноместный планер КАИ-11, который выполнял "подлеты", т. е. взлетал с лебедки, отцеплялся и пролетал прямо по курсу в пределах летного поля несколько десятков метров.



