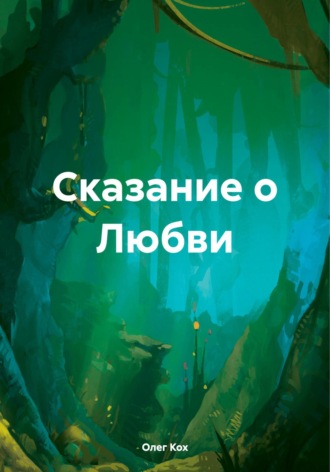
Полная версия
Сказание о Любви
Не успев привыкнуть к своему новому жилищу, мы отправились в колхоз убирать картошку. Почти сутки ползли сначала по Волге, потом вверх по Каме на допотопном колёснике. Древний пароход, поглощая своим ненасытным чревом тонны каменного угля и выбрасывая через огромную белую трубу, окаймленную веселой красной полосой, клубы черного дыма, растянувшегося за судном длинным черным шлейфом на десятки километров, неторопливо шлепал по воде многочисленными лопастями своих огромных колес. Мы сидели в темном душном трюме, куда не проникали лучи солнца и свежий воздух, в синем чаду сигаретного дыма и под усыпляющие, греющие душу звуки Дамировой гитары пили бормотуху и резались в карты. Куда нас везли и когда будем на месте, никто не знал. Да и не хотел знать.
На одиноко притулившемся к высоченному крутому берегу дебаркадере, к которому после долгих манипуляций пришвартовался наш колёсник, было черным старинным речным шрифтом начертано красивое, воздушное, романтичное – "Набережные челны". Стояла какая-то густая тяжелая мгла: то ли насыщенный влагой туман, то ли мелкий моросящий дождь. Вырванные из пропитанного винно-сигаретным перегаром теплого уютного трюма, мы, ежась от утреннего пронизывающего холода, вынуждены были долго и нудно подниматься по длинной деревянной лестнице на берег, где нас посадили в грузовики и повезли в колхоз с претенциозным восточным названием "Татарстан". Разместили по частным квартирам. Слава Богу, мы, Витя Ермаков, Миша Левтеров и я, попали в теплый дом к хорошим людям.
Осень стояла холодная, дождливая. Погожие дни, когда можно было выходить на работу на картофельное поле, – по пальцам перечесть. В ожидании погоды мы чем только не занимались: ходили за грибами, играли в карты, готовили концерт художественной самодеятельности и пр. В этой связи заслуживают внимания некоторые события.
Я стал брать у Дамира Сафиуллина уроки игры на семиструнной гитаре, точнее, уроки аккомпанемента. Первую песню, которой научил меня Дамир, помню до сих пор: "Белые улицы и мосты, в белых шапках дома. В беленькой шубке, любимая, ты – как маленькая зима…" Потом выучил еще две или три песни, одну из которых играл специфическим замысловатым боем, называемым "восьмерка". Я не был притязательным: для всех песен мне достаточно было трех аккордов. Так что я с этими тремя аккордами, как говорят, без зазрения совести полез на сцену на концерте художественной самодеятельности в сельском клубе.
Второе событие: мы с Дамиром оба влюбились в Милу Корепанову из нашей группы. Мила предпочла Дамира, наверно, потому, что он лучше играл на гитаре. Шучу. Истинную причину знает только Мила. Хорошо помню необычное ощущение волнения и счастья, за что благодарен Миле до сих пор.
Были события, ставшие для меня открытиями. Это в первую очередь походы за грибами, которые научили меня: а) разбираться в грибах; б) готовить из них блюда; в) с удовольствием эти блюда уплетать. В одной из таких прогулок мы набрели на пасеку, подняли крышку одного из ульев и увидели полусонных, копошащихся пчел. Кто-то из нас со знанием дела взял рамку, наполненную медом, стряхнул в улей пчел, и мы, как мишки, отламывали куски душистого сотового меда и уплетали за обе щеки. Пару рамок принесли домой и угостили хозяев, которые, очевидно, постеснялись отказаться, но было заметно, что они чем-то недовольны и встревожены. Мы поняли, что сделали дурно.
Одно происшествие, которое, наверное, можно назвать чрезвычайным, мне до сих пор неприятно вспоминать, хотя случилось оно не со мной. Не знаю, правильно ли я поступил тогда, нашел ли я такие слова, чтобы меня верно поняли. Одно могу сказать, что я старался быть честным и объективным (если вообще может быть объективным субъект). Вот что произошло. Наши ребята, среди которых были боксеры-разрядники, сильно избили местного парня, который вступился за свою девчонку. Парень попал в больницу с настолько тяжелыми травмами (сломана челюсть и пр.), что было неясно, придет ли он в нормальное состояние.
Прибыли наши отцы из института и стали думать, как выгородить своих питомцев и тем самым спасти честь мундира. И началась мышиная возня: волка стали втискивать в шкуру ягненка. И самое удивительное, что в этой метаморфозе, в этом постыдном действе принимали участие не подлецы, не мерзавцы, а самые нормальные и даже симпатичные люди: студенты и их наставники. Как будто Бог отнял у них сердце и разум. Всех просто раздувало от фальшивого, напыщенного патриотизма, словно встали они за правое дело, на защиту Родины. Вы спросите: неужели не оказалось ни одного здорового, вменяемого человека? Конечно, были такие, которых это происшествие возмутило до глубины души. Но как трудно выступить против экзальтированного, принявшего дозу, зомбированного большинства. Однако молчать еще труднее. Мы решили выступить на собрании, и это дело поручили мне.
Ударил колокол, собрал людей на вече. В сельском клубе народу – битком: местные колхозники и варяжские гости. Гостей больше. И в президиуме гостей больше, и они правят бал. Ну разве могут колхозники соперничать с высокими гостями в искусстве казуистики, демагогии, фальсификации, словоблудия, в умении черное представить белым, белое черным. Они ничего не понимают, они чувствуют, что совершается несправедливость, что все перевернуто с ног на голову, но возразить не могут. Игра идет в одни ворота, пустые ворота. Жаркие, неистовые выступления, исполненные "справедливого гнева", следуют одно за другим.
Сижу, готовый залезть под скамейку – да не от стыда, а от страха, – и думаю: ну что, тебе больше всех нужно? Зачем ты вообще пришел сюда? Сидел бы дома и не мучился. Может, ты чего-то не понимаешь, сгущаешь краски, преувеличиваешь? А может, ты – злодей?.. Сижу и не могу решиться. И вот когда все уже высказались, выпустили пар и всё, казалось, пришло к своему законному (читай – беззаконному) концу, я встаю и тихо, сбивчиво, как бы извиняясь, начинаю говорить примерно следующее: "Мы совсем забыли про парня, который лежит в больнице в тяжелом состоянии. Попробуйте поставить себя на его место. Живет человек в своей деревне, ухаживает за девушкой, ни о чем плохом не думает, ничего дурного не ожидает. И тут, откуда ни возьмись, приезжают веселые ребята, они молоды, здоровы, им не дают покоя гормоны, и они начинают приставать к местным девчонкам. И вдруг какой-то невежда, не имея ни малейшего представления и не давая себе труд понять, что такое сексуальная озабоченность, нагло встает у них на пути…" Договорить мне не дал окрик из президиума: "Так ты что хочешь, чтобы их посадили??!" Я сначала что-то мямлил, оправдывался, доказывал, что я не верблюд, а потом, распалившись, стал вопить что-то совсем уж несусветное, невразумительное: "Да кто вообще имеет право бить человека! Для чего отец с матерью родили, растили, кормили, лелеяли его, говорили ему ласковые слова? Для того чтобы какие-то проходимцы уродовали, убивали его?!" И так далее в том же роде. Не помню, чем закончилась эта драматическая история. Парень вроде выздоровел, ребят, слава тебе Господи, не посадили. Но у меня она оставила неприятный осадок и чувство вины перед главными участниками происшествия, которые тем не менее, непонятно почему, относились ко мне в дальнейшем тепло и приветливо…
Заканчивался сентябрь, а погоды все не было. Больше половины картошки покоилось в земле. За нами приехали наши отцы из деканата. Руководство совхоза стало уговаривать наше руководство продлить командировку студентов и хотя бы частично спасти урожай. На дворе стояло глухое ненастье: холод, дожди, на носу зима. Но в стране-то царила Оттепель! А что это значит? А это значит, что у низов прорезался голос. Поэтому наши отцы не стали объяснять колхозным отцам, что надо выполнять напряженный учебный план, что студенты простужены и им все это осточертело, а сказали они примерно следующее: "Мы бы рады, но захотят ли низы?.. Давайте спросим у низов! Устроим голосование. В конце концов, у нас теперь – демократия".
Перед собранием я, выросший в селе и впитавший с молоком матери куркульские замашки, сказал ребятам: "Понимаете, в чем дело? Вот мы уедем, и картошка сгниет. И никто, кроме нас, ее не уберет. Просто некому". Ребята поняли меня с полуслова. Эту простую мысль мы и довели до почтенного собрания… В зале повисла мертвая тишина… И было принято волевое государственное решение: оставить нас до тех пор, пока не вызволим из земляного плена всю картошку. И никакого тебе голосования, и никакой демократии. Вы что-нибудь понимаете? Лично я отказываюсь что-либо понимать. Вот так трёкнешь что-нибудь не подумавши, а другие – расхлебывай.
А тут и снег подоспел. И вгрызлись мы в густую черную, перемешанную со снегом и грязью землю. Злые, как черти, мы работали как одержимые. Куда там Павке Корчагину, рабам на галерах или неграм на плантациях сахарного тростника! Вязли вилы (о лопатах и подумать было немыслимо), стыли руки (перчатки, которых вдруг стало изобилие, моментально превращались в комья грязи), мы рвали и метали, а сердца выстукивали: "Не спи! Замерзнешь!"
И действительно, было не до сна. Объединенный колхозно-институтский коллектив жил, работал и дышал, как единый организм. Боюсь, что у читателя создастся обманчивое впечатление, что кругом царила атмосфера уныния и отчаяния. Ничего подобного. Несмотря на суровые условия, молодость и присущий ей комсомольский задор брали свое, заявляли свое законное право на шутки, смех, подкалывания.
Это бесшабашное настроение передавалось и местным ребятам. Вот один трагикомический эпизод. Молодой тракторист, который возил нас в тракторном прицепе на работу и с работы в положении стоя, в припадке льющегося через край вдохновения и со словами на устах: "Эх, прокачу!" – так разогнал свой трактор "Беларусь", что на крутом вираже прицеп наш опрокинулся, и мы, подхваченные нечистой силой, продолжили полет в заданном направлении, игнорируя какие бы то ни было виражи, и угодили в огромную лужу. Поскольку лужа была достаточно глубока, скажем, по пояс, и заполнена не простой водой, а жидкой грязью, мы благополучно опустились на дно этого спасительного болота, не получив абсолютно никаких телесных повреждений. Мне, заброшенному означенною силой дальше всех и потому лишенному счастливой участи Садко побывать на заманчивом дне, довелось наблюдать довольно странную, поистине космическую картину. Черная, пустынная, булькающая поверхность какой-то планеты, и – ни души вокруг… Вдруг из этой поверхности выскакивает, как из небытия, как черт из табакерки (если и существует черт, то он должен быть именно таким), невиданное на планете Земля существо, с головы до пояса (дальше не видно) покрытое каким-то неведомым веществом, похожим на нашу жидкую грязь, с оттопыренными круглыми штуками, произрастающими из того места, откуда у человека обычно растут уши, с сверкающими диким блеском шарами ( там, где у человека расположены глаза), и начинает дико ржать. Практически одновременно с первым выныривает второе, третье, десятое… (и все, если можно так выразиться, на одно лицо) и дружно включаются в многоголосое, безудержное ржание. Неведомое вещество, которым покрыты тела этих существ, бесконечными струями стекает с них, как из рога изобилия. Между тем ржание нарастает и достигает апогея. И вдруг из чрева одного из существ вырывается раздирающий душу и другие чувствительные органы вопль на чистейшем русском языке: "Растудыт твою в качель!!!" И потустороннее жуткое ржание прекращается в единый миг, и всем становится ясно, что неведомая планета, на которой все сие произошло, не что иное, как наша родимая матушка-Земля, чудо-юдо с оттопыренными ушами никто иной, как Вовка Романов, а такое совершенное владение русским фольклором доступно только настоящему поэту, коим оказался Коля Дектерев. У кого-то совершенно случайно, как это обычно бывает, оказался фотоаппарат, так что все попытки уличить меня во лжи обречены на неудачу. Возбужденные и взбудораженные, чрезвычайно довольные собой и приключением отправились мы на ужин.
Наверное, можно было бы еще что-нибудь вспомнить из нашей колхозной одиссеи, но в этом случае мы рискуем никогда ее не закончить. А нам уже давно пора отправляться на учебу: пошла вторая половина октября. Уверен, по длительности пребывания на сельхозработах мы побили все мыслимые и немыслимые рекорды за всю историю колхозно-студенческих эпопей. Но, согласитесь, и урожай ведь был рекордный. К тому же мы дали слово, а студенты слов на ветер не бросают.
На стипендию в 35 рублей жить в то время, наверное, можно было, жили же наши девчата. Думаю, и я бы смог. Но в КАИ была хорошая традиция – шабашки. Наша 309-я решила позаботиться о том, чтобы замечательная традиция не пресеклась. Мы подошли к этому предприятию по-научному. Изучили если не весь, то весьма значительный и обширный спектр потенциальных шабашек в Казани, изучили юридическую и экономическую сторону дела. Узнали, например, что согласно шабашниковскому трудовому праву запрещается сбивать расценки, то есть занижать стоимость работ.
Самая географически близкая шабашка, табачная фабрика, находилась совсем рядом с нашей общагой – через два дома по улице Большая Красная. Продукция её – сигареты "Аврора", махорка, морской табак и пр. Табак – это стратегический и остро необходимый организму продукт, гораздо важнее хлеба: без хлеба можно прожить день, без табака – нет. Кроме Миши Левтерова и Вити Ермакова, в 309-й все курящие. Расценки самые низкие из всех шабашек – 10 рублей за ночь. Но ведь и работа не пыльная: развезти всю продукцию, коробки с сигаретами и с табаком, из цехов по складам и навести порядок: убрать обрывки бумаги и пр. Но самое главное – трофеи. С шабашки обычно приносили неразрезанные сигареты и морской табак. Специально завели Трубку Мира и солидно, с чувством курили крепкий морской табачок по очереди на кухне. Махорку брали в походы как резерв, ибо существует туристское правило: сколько пачек сигарет ни бери, все равно не хватит.
Если хотели попить хорошего вина, шли на винзавод (три-четыре человека). Характер работы: из цеха перевезти деревянные бочки с вином на склад, предварительно взвесив каждую. Один раз пришлось закатывать бочки по трапу в ж/д вагон – это потруднее. Заработок: 15 – 20 рублей за ночь (4 – 5 часов, не больше). Пока работали, ночной дежурный (он же распорядитель и работодатель) грел ведро с вином на электрической плитке до комнатной температуры, и после работы – пей сколько влезет, выносить с территории завода обычно не разрешали. Но иногда вино удавалось прихватить с собой в какой-нибудь подпольной таре, например, в грелке. В общагу отвозил нас служебный автобус.
Вспоминаю, как первый раз на первом курсе мы с Мишей Левтеровым и еще несколько парней с нашего факультета пошли днем наудачу искать шабашку. Мы не имели ни малейшего понятия ни о характере работ, ни о расценках. Нам подвернулось разгружать открытый сверху пульман (товарный ж/д вагон) с бревнами. Бревна нужно было переваливать через стенку вагона. Сначала мы их просто скатывали. Потом пришлось приподнимать, но было все еще терпимо. Затем поднимать нужно было все выше и выше, все опаснее и опаснее: сорвись бревно случайно, и ты будешь погребен под ним. Это была адская работа. Мы выдохлись, так её и не завершив. Нам заплатили какие-то копейки, но не нужны были никакие деньги, лишь бы поскорее унести ноги, пока цел. Как сказал Владимир Семеныч: "Скажи еще спасибо, что живой". Так нам еще и досталось от стариков, что сбили расценки.
На втором курсе осенью пару раз приходилось днем разгружать баржи с арбузами. Один раз бегали парами с носилками по узкому хлипкому трапу, норовя то и дело свалиться в воду. Другой раз веселее – конвейером. Заработки вроде небольшие были, а умотались до того, что ноги не держали. Никакие арбузы не нужны. Больше мы на баржи не ходили.
Были непродолжительные эпизодические подработки, которые и шабашками-то назвать не берусь. Это разгрузка машин в магазинах и ресторанах: ящики с водкой или шампанским, например. Один раз я даже попал на дегустацию (наверное, как почетный грузчик) эксклюзивных, экзотических блюд, которую устроил какой-то ресторан на улице Татарстан. На этом званом торжестве желудков я раз и навсегда влюбился в блюда из кальмаров, о которых (кальмарах) до того не имел ни малейшего представления.
Постепенно мы стали довольно-таки солидными шабашниками. Из четырех вделанных в стену шкафов один выделили для рабочей одежды. Мы теперь редко искали шабашку, шабашка искала нас. На мелочи не разменивались: не меньше 30 рублей за ночь. У нас появились постоянные работодатели и постоянные работы. Нам звонили накануне (как правило, за день) и справлялись, сможем ли. Обычно мы были готовы, как пионеры: на труд – как на подвиг. В назначенное время приезжал автобус и с комфортом доставлял нас на работу. О расценках и прочих условиях договариваться было не нужно: всё было давно раз и навсегда обговорено. Что это были за работы и каковы были расценки. Мы разгружали шестидесятитонные пульманы: чаще с цементом в мешках по 40 кг, иногда с известью (в мешках и россыпью) и один раз с углем, который таскали на носилках, – самый неудобный вариант. То ли дело: схватил мешок и побежал по трапу, а с носилками не набегаешься. Такса: два рубля за тонну – итого 120 рублей вагон. Вот и считай: если вчетвером – то по 30 р. на рыло, если втроем – 40. Обычно не жадничали, ездили вчетвером; втроем, – если четвертого не оказывалось. После цемента облик менялся: ты на неделю становился чернявым, с подведенными, как у артиста, выразительными глазами и черными бровями.
Так что с деньгами у нас проблем не было. Согласитесь, очень даже недурственно при стипендии в 35 р. иметь возможность за ночь заработать 30 – 40 рублей. При таком раскладе мы даже не на всякую работу соглашались: предпочитали вариант – в мешках. Разумеется, при таком финансовом положении я уже со второго курса наотрез отказался от денежной помощи родителей, правда, немало сил положил, чтобы их в этом убедить. Но посылки получал с удовольствием и достаточно часто; чего только мама с папой не присылали: в основном, конечно, мясо и эксклюзивные мясные изделия немецкой кухни. Но однажды умудрились прислать яйца, и ни одно не разбилось – высший пилотаж! В этой связи меня несколько лет спустя постигло горькое разочарование, что-то вроде разбитой любви или крушения иллюзий. Я как-то вычитал в толстой солидной книге "Ф. Энгельс", что Карл Маркс, будучи студентом, пропивал с друзьями деньги, которые с трудом собирал ему отец, и вопил в письмах: "Еще давай!" Таких вещей я не могу понять и принять, ну не дано мне! И друзьям моим не дано! Самоотверженной любви моей к классику пришел "капут".
Однако самой крутой шабашки нам испытать не довелось. Это погрузка-разгрузка "клепки". Клепка – спрофилированные дубовые дощечки, из которых делают бочки. Для переноски клепки предусмотрены специальные приспособления рюкзачного типа, куда укладывается 100 кг таких дощечек (не меньше). Да и до матерых шабашников нам было далеко, но мы за такими высокими званиями и не гонялись, и за деньгами тоже.
А были еще и Короли шабашки. Я знал, по крайней мере, одного. Звали его Григорий Якобсон. Работал он преимущественно на клепке. Отличный парень, боксер, курса на три старше меня. Он считал себя некрасивым, так как у него был сломан и сплющен нос, – у боксеров это часто случается. Я бы этого не сказал: мужественный человек не может быть некрасивым. Он мне прямо говорил: "Кому я нужен с такой физиономией? А при деньгах, может, и найду себе невесту". И шабашил по-черному: один мог за ночь разгрузить пульман с цементом. К окончанию института у него уже была приличная сумма на книжке: и на квартиру хватало, и на машину.
После зимней сессии мы с Герой Кочетковым поехали в Ленинград: он к дяде, а я к тете. Мы оба в школе серьезно занимались баяном. Но на сей раз баяны мы оставили в общаге и взяли с собой гитары. Итак, вооруженные гитарами, мы устроили гастроли в вагоне поезда. Вокруг нас собралась приличная компания певчего студенческого народа, и мы дали волю разгулявшимся страстям.
На Московском вокзале Ленинграда нашли справочное бюро и выяснили, как добраться к родичам: Гера – к дяде, а я, разумеется, – к тете. Но, видите ли, какая штука: адреса у нас были совершенно разные, но посадили нас в один и тот же автобус и выйти предписали на одной и той же остановке. Мы с Герой переглянулись и в недоумении пожали плечами: мол, ладно, если вы так хотите, мы поедем, но отвечать придется вам! Мы сошли на указанной остановке и, все еще ожидая подвоха, попросили приветливых, гостеприимных ленинградцев (а ленинградцы по сию пору сохранили эти замечательные качества) указать координаты: Гера – дяди, а я, само собой, – тети. И что вы думаете, наши дома оказались в одном дворе, в двух шагах друг от друга. Если бы нам сказали в самом начале, что это будет именно так, мы бы ни за что не поверили, потому что этого не может быть никогда.
И начались наши с Герой ленинградские гастроли. Ангелом-хранителем и покровителем моим была моя двоюродная сестра Галя, десятиклассница. А над Герой взял шефство его двоюродный брат Витя, студент второго курса Ленинградского политеха. Галя подготовила для меня культурно-просветительную программу: музеи, театры. И Витя подготовил для Геры не менее привлекательное мероприятие: знакомство со своими друзьями, студентами означенного института, и, как следствие, – культурный обмен. Эти две программы мы решили объединить, поскольку одна дополняла другую. Надо сказать, что зима в Ленинграде в тот год выдалась суровая, мороз – -20о, а с учетом повышенной влажности в городе на Неве, это то же самое, что -30 в Казани и -40 в Целинограде. А я, уроженец Северного Казахстана, где морозы бывают и под 50, решил выпендриться перед ленинградцами и приехал без шапки и в легкой курточке. Но на меня никто не обращал никакого внимания. Тогда я взял и обморозил уши, да так сильно, что они у меня обвисли, как у спаниеля, а на следующий день и вообще покрылись волдырями. Пришлось купить легкомысленную шапочку с козырьком и с опускающимися ушами.
Итак, в первой половине дня мы выполняли Галину программу, то есть ходили по музеям, а вторую посвящали Витиной культурной программе. Надо честно признаться, что Витина всем была больше по душе, ибо не нужно было напрягаться и с умным видом стоять перед произведением живописи или другим музейным экспонатом, а можно было расслабиться за хлебосольным Витиным столом, уставленным напитками и закусками. Мы с Герой дарили студентам политеха (а если молвить правду, то больше студенткам) свои песни, а они нам – свои. Периодически мы, как римские патриции, освобождали в туалете желудки, и веселье продолжалось. И продолжалось оно неделю, до самого нашего отъезда из колыбели революции. В итоге у каистов желудки и головы оказались покрепче, чем у студентов Ленинградского политеха, чем мы были несказанно горды, приблизительно так же, как хоккеисты нашей сборной, впервые выигравшие у канадских профессионалов. Да и песен мы выдали на-гора поболе.
Пришла пора начать долгий, длиною в целую жизнь, рассказ о неизлечимой болезни, которой я (и мои близкие) страдаю до сих пор и от которой, честно говоря, не хочется, да, наверно, и не нужно лечиться, потому как – бесполезно. Редко кому удается избавиться от этой болезни. Так что лучше остерегаться ее, пока она тебя не подкараулила и не накрыла с головой. Болезнь эту и назвать-то трудно. Она не то чтобы сродни страсти, она – сама страсть. А заболевший ею, вы совершенно правы, – страстотерпец. У нее много разновидностей, и большинство из них имеют под собой какие-то разумные основания, какие-то весомые причины, какие-то убедительные оправдания. Их можно рационально объяснить, а следовательно, и понять. Например, путешествия по странам и континентам, по городам и весям можно объяснить: а) любознательностью; б) любовью к коллекционированию (путешествий); в) интересом к архитектуре, живописи; г) страстью к собирательству (корней, цветов, трав, жучков, бабочек), к научным открытиям, археологическим находкам; д) спортивным интересом, наконец. Даже увлечение альпинизмом можно оправдать стремлением покорить вершину, на которой: а) еще не бывал; б) никто не бывал.
Но вариант болезни, которой когда-то заболел я и которой болею до сих пор, не имеет никаких оснований, никаких причин, никаких оправданий; он неразумен, неубедителен, он совершенно иррационален, его не может понять и объяснить даже сам заболевший, а что уж говорить о тех, кто смотрит на него со стороны. Представьте себе: человек берет мешок, набивает его неважно чем, лишь бы было потяжелей, взваливает себе на спину и идет неведомо куда и зачем, лишь бы подальше, и уже в этом хождении с тяжелым мешком находит нечто наркотическое, нечто такое, что не поддается объяснению. Попробуйте забрать у него мешок, и вы сделаете его самым несчастным на земле существом, даже если в мешке – одни серые камни. Слава Богу, вам это вряд ли удастся сделать. Он может в сорокаградусный мороз прийти в промерзшую землянку, в звенящем, трескучем лесу нарубить дров, затопить печку (как вариант, походную буржуйку), открыть топором банку консервов и, подобно дикому пращуру, с невиданным наслаждением предаться пиршеству. Так он может блаженствовать сколь угодно долго – немытый, небритый, нечесаный, вдали от родных и близких. И оторвать его от этого блаженства может только новая дорога, еще более длинная и тяжелая.



