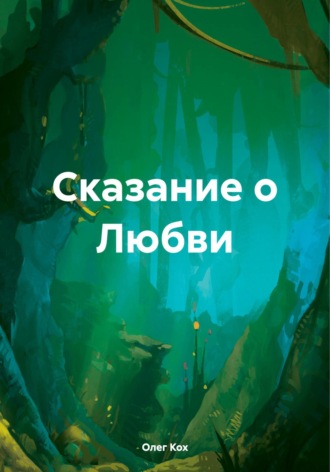
Полная версия
Сказание о Любви
В самолете мы садимся на откидные сиденья, смонтированные по обоим бортам. Инструктор обыденно, по-деловому проходит вдоль сидений, привычным движением руки достает из-под резинки на запаске карабин, цепляет его за трос под потолком самолета и каким-то непостижимым образом вселяет в нас не то что спокойствие, но некоторую уверенность, что все будет окей.
А меня так и подмывает желание выпендриться, показать, что я не первый раз прыгаю, что мне все до лампочки. И когда подходит моя очередь, я, не дожидаясь раздирающей душу и барабанные перепонки сирены, разбегаюсь и ухаю в открытую дверь. И тут неотвратимо и властно берет меня в оборот испытанная мною однажды непонятная механика: моя внешняя оболочка разгоняется быстрее, чем внутренние органы: очевидно, но непонятно почему, обладающие большей инерцией. В результате чего ты уходишь вниз, а печенка и мочевой пузырь норовят взмыть вверх, и это, доложу я вам, ощущение не из приятных. Хорошо, что оно длится всего три секунды (а кажется – вечность), а то ведь недолго остаться и без органов, которые могут еще пригодиться. Но вот над тобой хлопает купол, органы возвращаются на свои законные места, и тебя опять раздирает свинячий восторг, закручивает мозги наркотический кайф, и страсть как хочется принять новую дозу.
Домой мы возвращаемся на том же грузовике, сидя теперь уже на распущенных парашютах. И черт меня подери, если у кого-нибудь хоть на мгновение закрывается рот… На следующий день Валера Боков принес в общагу песню, в которой он отвел страждущую душу и которая начиналась правдивыми технологическими словами: "Парашюты еще с вечера уложены и моторы, как сердца, зачехлены…" В следующий раз нам уже не так грустно: мы вооружены Валериной песней и яростно горланим ее, разгоняя утреннюю дрему и усмиряя не в меру разгулявшиеся нервы.
В мае месяце, когда вода еще не прогрелась для комфортного купания, я стал ездить по вечерам, когда стемнеет, на правый берег Казанки. Там в воде на приличном удалении от берега стояла вышка, с которой можно было прыгать в воду и съезжать по желобу, как с детской горки. Сначала я ездил один с нашей квартиры на улице О. Кошевого: Толик с Геной не относились к категории любителей купаться ночью в прохладной воде. Потом ко мне присоединились ребята из нашей группы. Как-то раз я приехал раньше ребят, включил на полную громкость новенький транзисторный радиоприемник, по которому транслировался проходящий в то время конкурс Чайковского, и поплыл к вышке. Увидев на берегу силуэты ребят, я спрятался в лабиринтах ферменной конструкции вышки и стал их поджидать. Ребята покрутились на берегу и пошли в ту же сторону, откуда пришли. И конкурс Чайковского стал удаляться вместе с ними. Я подумал, что они решили меня разыграть, и поплыл к берегу. Не успел я доплыть, как друзья мои вернулись, но без музыки. Спрятали неподалеку, подумал я, но решил не доставлять им удовольствие и сделал вид, что судьба транзистора меня не волнует и музыкальный конкурс не интересует.
Мы вволю покупались, покатались с водной горки и пошли на остановку трамвая. Смотрю, ребята никак не обнаруживают желание вернуть мне приемник. И тут во мне закопошились нехорошие мысли, но я, еще надеясь на чудо и стараясь сохранить лицо, как бы между прочим сказал, что, мол, сдаюсь, ваша взяла, отдайте приемник – там идет конкурс Чайковского. Короче, выяснилось, что, когда они подходили к пляжу, навстречу им попалась кучка ребят с транзистором, из которого лилась чарующая музыка. Всё понятно, сказал я, эти герои так же, как и я, не равнодушны к классической музыке, и это их в некоторой степени оправдывает. Но зачем они прихватили еще и мои часы "Маяк"? На этот вопрос я ответа не нашел.
Часть лета после первого курса я прыгал в аэроклубе. Потом решил навестить моих тетушек, маминых младших сестер, на Украине. Сначала поехал к тете Вере в город Волноваху (40 км от Донецка). Муж ее, дядя Ваня, на войне потерял правую руку. Он был похож на моего отца: такой же позитивный, интеллигентный, доброжелательный, с чувством юмора. А тетя Вера – вылитая мама моя, только выше ростом. Умная, рассудительная, с прямым, открытым взглядом, она удивила меня тем, что курила. А дядя Ваня был некурящий, хотя прошел почти всю войну. Редкая рокировка вредной привычки между двумя близкими людьми. Жили они душа в душу, но детей у них не было. Тем более любили они всех племянников, которые гостили у них каждое лето. Чаще всего приезжали дети тети Кати (младшая сестра тети Веры), так как жили недалеко в Харьковской области. Ленинградские племянники, Витя с Галей, тоже не забывали свою гостеприимную тетушку.
Этим летом настала моя очередь испытать на себе любовь и заботу тети Веры и дяди Вани, раньше я у них никогда не бывал. В это же время приехала моя кузина Галя из Ленинграда. Август месяц, разгар лета, а купаться в Волновахе негде. Несколько раз съездили на электричке на Азовское море в г. Жданов (ныне Мариуполь). Старшим товарищем и гидом нашим постоянно был дядя Ваня: человек романтического настроя, он с удовольствием выполнял эту миссию. Азовское море мелкое, теплое, купаться – одно удовольствие. Дядя Ваня устроил нам с Галей экскурсию по Жданову, но я об этом ничего не помню. Ездили на экскурсию и в шахтерскую столицу Донецк, но и об этом городе память ничего не сохранила.
Однажды наша боевая троица затеяла десятикилометровое пешеходное путешествие на какую-то речку, которая оказалась живительной водной артерией среди песков и чахлой, обожженной солнцем растительности, довольно-таки неплохо населенной купающимся народом. В промежутках между омовениями и заплывами играли в волейбол. Я носился и прыгал по песчаному пляжу, как мячик. От избытка чувств и внутренней энергии прыгал больше, чем бил по мячу, и череда этих прыжков занесла меня в яму, заросшую жухлой травой, куда я прыгнул за мячом. Выскочил оттуда с окровавленной правой ногой. В яме на своем законном месте лежала груда битого стекла (где ж ему еще находиться?). Порезы были глубокие, перерезано сухожилие. Кровь кое-как удалось остановить, к ране приложили подорожник, лопухи, чем-то перевязали. Я сгоряча порывался играть, но дядя Ваня убедил меня, что это не шутка и надо идти домой, так как транспорта никакого не предвиделось. Сначала я, как мог, бодрился, потом боль стала усиливаться и наконец сделалась невыносимой. Остаток пути я буквально висел на плечах Гали и дяди Вани.
Сутки перед отъездом (билеты были взяты заранее) я лежал на кровати с подвешенной к потолку распухшей ногой, которая судорожно дергалась. Потом с помощью костылей и дяди Вани сел в вагон, и мы с сестрой Галей отправились к другой нашей тете в поселок Коломак Харьковской области.
У тети Кати большой дом, большая семья и огромный сад; на столе – украинская горилка, дымящийся украинский борщ, источающий одурманивающий аромат, и вареники с вишней, которая поспела в саду у дяди Гриши. А за столом – вся дружная семья: кроме тети Кати и дяди Гриши, их дети: Толик с женой, Танечка, старшеклассница, и Наталка.
В поселке молодежная жизнь била ключом. Днем купались в большом ставке (пруд по-нашему), вечером собирались за околицей. Мы с Галей втянулись в местную компанию быстро и безболезненно: на второй день спокойно гутарили (говорили) на украинской мове (языке). А вот купаться мне еще неделю было нельзя, но через два дня терпение мое лопнуло, и я стал нырять в ставок прямо с мостков с забинтованной ногой. После водных процедур тетя Катя делала мне перевязку.
Несколько дней оставшихся каникул я провел в родной Волгодоновке в кругу родных и близких мне людей.
Так вот мое начало, вот сверкающий бетон
И выгнутый на взлете самолет…
Судьба меня качала, но и сам я не святой,
Я сам её толкал на поворот.
Я сам толкал её на поворот.
Простеганные ветрами и сбоку, и в упор,
Друзья мои из памяти встают:
Разбойными корветами, вернувшимися в порт,
Покуривают трубочки – "Салют!"
Покуривают трубочки – "Салют!"
Моя ж дорога синяя лежит за острова,
Где ждет меня на выгнутой горе
Подёрнутая инеем пожухлая трава
И пепел разговоров на заре.
И пепел разговоров на заре…
Так вот обломок шпаги, переломанная сталь,
Вот первое дыхание строки.
Вот белый лист бумаги,
вот непройденная даль.
И море вытекает из реки.
И море вытекает из реки.
(Ю. Визбор)
Глава 7. КАИ. Продолжение
Марийская тайга…
Души моей отрада:
и спелые снега,
и летняя прохлада.
Ну вот, теперь я не бездомный человек: у меня есть дом и семья. А семья – это не случайное собрание разнородных людей. На первом курсе в процессе неизбежного общения прежде всего с одногруппниками наметились некоторые взаимные симпатии. Разумеется, происходило это на подсознательном, интуитивном уровне независимо от воли и желания. Понятно, что я, проживший год на частной квартире, не мог даже прикоснуться к внутреннему миру ребят, к которым чувствовал неосознанное влечение. Другое дело – мы втроем, я, Толик Батманов и Гена Климов, толкавшиеся целый год в одной комнате, действительно успели кое-что узнать друг о друге. Но и это не обязательно. Важно, чтобы было желание у одного человека понять другого. А если есть еще хотя бы мизерная способность, да не способность даже, а настроенность пожертвовать каким-нибудь пустячком, какой-нибудь ничтожной привычкой ради сохранения мира, лада и комфортных, ненапряженных отношений, – то лучшего и желать не надо. Все это у нас у троих оказалось в запасниках и за год умножилось. И добро бы и дальше плыть вместе в одной лодке. Но Толик был отчислен за неуспеваемость, а Гена не захотел жить в общежитии, или не хотели родители.
Пришлось мне подбирать новую компанию. Действовал я прямолинейно: подходил и предлагал поселиться вместе в одной комнате. Так сформировалась наша комната № 309, основной костяк которой сохранился до окончания института. Вот ее состав: Миша Левтеров, Валера Краснов, Коля Егоров, Женя Назаров из параллельной группы, Витя Ермаков, Володя Никитин и ваш покорный слуга Олег Кох. Вот те раз, получается семь человек, а комната шестиместная. Если бы это был не дебют нашей жизни в этом общежитии, я бы не удивился, внимания бы даже не обратил. Впоследствии (и даже уже очень скоро) мы никогда не жили вшестером, доходило и до двенадцати. Но в самом начале, в момент заселения, мы не могли сразу, без надлежащей психологической подготовки дойти до такого нахальства, тем более что у нас был очень строгий комендант Виктор Иванович; кажется, фронтовик. Но если правильно подойти к служивому человеку, найти нужные струны души и грамотно, нефальшиво сыграть на них, то можно подобрать ключ даже к такому суровому сердцу, как у Виктора Ивановича. Таким ключом оказалась всего-навсего бутылка водки. И не обязательно поллитровка – вполне достаточно было и чекушки. Как банально, скажете вы, опять пьянка, опять коррупция – ничего оригинального и тем более душевного. И окажетесь неправы. Виктор Иванович не был ни алкашом, ни взяточником. Просто он свято чтил исконно русские обычаи и традиции: не нами установлено – не нам и отменять. Ведь что такое чекушка? Бессердечный человек скажет: "Как что?! Аварийная доза для опохмелки!" А душевный человек возразит: «Не-ет. Это теплоноситель, передающий тепло от одного сердца к другому. Это – "спасибо", переплавленное в материальный экстракт». Пустые слова на Руси никогда не были в цене, а может быть, и в чести. Он, может, ее и пить-то не станет, а будет носить у самого сердца. Не потому ли Виктора Ивановича никто никогда не видел пьяным. Выпившим он был только один раз, когда мы навсегда покидали родную общагу. Увидев слезы в его очах, мы по-настоящему поняли, кем были мы для него и кем – он для нас.
Вернемся, однако, в комнату № 309. Итак, мы выяснили, что в момент заселения, а это было в конце августа 1966 года, нас не могло быть семеро. Будем проводить расследование. Володя Никитин был отчислен после зимней сессии, значит, кто-то пришел позже и занял его место. Скорее всего, это был Валера Краснов. Впрочем, это не важно.
Общежитие № 1 Казанского авиационного института располагалось на углу улиц Большая Красная и Красина в купеческом особняке – красивом четырехэтажном здании с колоннами, с угловым парадным подъездом, на который можно было вспорхнуть по широкой парадной лестнице. Над ним широко и просторно раскинули свои разлапистые кроны могучие вековые липы, хранящие память о всех его обитателях и как бы стремящиеся уберечь их от бурь и потрясений. Под сенью этих исполинов можно было найти спасительную прохладу в знойный день или укрыться от дождя в ненастье. Обитель наша нашла приют в тихом укромном местечке, куда не долетал шум большого города. Вместе с тем большой город был совсем рядом, по крайней мере, его историческая и культурная часть.
Если вы выйдете из общежития и пойдете по Б. Красной направо, то через 150 – 200 м упретесь в кремлевскую стену, повернув налево вдоль которой, так же скоро придете к главному входу в Казанский кремль. Прямо перед вами откроется весь кремлевский ансамбль: Спасская башня, Спасо-Преображенский собор, а за ним – знаменитая башня Сююмбике, откуда, по преданию, бросилась в мятежные воды Казанки татарская княжна Сююмбике – бежала из-под венца во всей своей нетронутой красе.
Если вам взбредет в голову повернуть от общежития налево по Б. Красной, то через два-три квартала вы окажетесь на левом крыле площади Свободы, на которой прямо перед собой увидите живописное поле роскошных роз всех цветов и оттенков.
Здесь меня так и подмывает поведать вам криминально-романтическую историю, которая произошла в начале лета следующего за текущим года, когда нас, казанцев, осчастливила своим творческим визитом Мирей Матьё. Приходит намедни ко мне в комнату мой друг-старшекурсник поэт Юра Ведерников (красивый, открытый всем ветрам парень, удивленные глаза которого могли, казалось, вместить целые миры, как земные, так и вышние) и, глядя на меня сверкающими восторгом очами, из которых шли искрящиеся высоковольтные разряды, вопрошает: "Ты знаешь, что к нам в Казань приехала Мирей Матьё?!" – "Не плохо бы прежде узнать, что это за особа и что привело ея в стольный град Казань в столь непростое для нашего брата времечко (полным ходом шла сессия)?" – ответил я вопросом на вопрос. "Ка-ак, ты не знаешь, кто такая Мирей Матьё??!" – с неподдельным ужасом воскликнул мой бедный друг. "Прости, брат, врать не буду, – ни в одном глазу", – попытался я хотя бы частично погасить гневные молоньи в страдающих очах. У оскорбленного поэта был такой потерянный образ (а если молвить точнее, – полное отсутствие образа; дофантазируйте сами, каким может быть человек без образа), что он меня либо пришибет, либо ни в жисть не даст прочитать боле ни одной строчки из своих сочинений. Вряд ли бы я смог перенести последнюю "египетскую казнь", если бы друг мой сердешный не сменил гнев на милость (на то он и поэт, чтоб "милость к падшим призывать"). Видать, преклонение перед неведомой мне женщиной у моего друга было столь велико, что он простил мое невежество и быстро перешел к делу.
Нам предстояло осуществить дерзкий по замыслу план операции, который могла родить только голова гениального поэта. Мы должны были чем свет, на ранней утренней зорьке (или на поздней вечерней, ибо в июне, как известно, одна заря спешит сменить другую, так что даже гениальный поэт, каковым несомненно был мой друг, не разберет, утренняя это зорька или вечерняя) нарезать охапку самых роскошных роз и вручить их очаровательной женщине, которая к тому же ещё и поет. Только что мы успели сократить поголовье роз на центральной площади Казани, как с разных её сторон благословенную утреннюю тишину прорезали пронзительные свистки. "Обложили, гады…" – вихрем пронеслось в наших, не изведавших этой ночью сна головах, и следом за этой праведной мыслью – запоздалое сожаление: "Надо было снять часовых, да кому ж могло прийти в голову, что им не спится в столь ранний час!" – "Мы всё пройдем, но флот не опозорим, мы всех прибьем, но роз не отдадим!" – воскликнул поэт, и мы ринулись в ту сторону, откуда пришли и откуда не слышно было "соловьиных трелей", т. е. – по Большой Красной. Но едва мы втекли в родную улицу, сулящую спасение, как увидели впереди "соловья" в милицейской форме. Он спокойно стоял и манил нас пальцем, как заманивает миской пшенной крупы птичница неразумных цыплят: "Цып-цып-цып…" Если бы не сумерки, не успевшие рассеяться, мы наверняка увидели бы на лице полисмена самодовольную улыбку спрута, затягивающего петлю на наших хрупких шеях. Рефлексивно развернувшись в обратную сторону, мы уперлись взглядом ещё в двух "соловьев", маячивших, подобно миражам, на углу пятого здания родного института. Не успев ничего толком сообразить, мы неожиданно обнаружили слева и чуть впереди, в сторону общаги, дорогу в которую перегородил нам ночной страж, узкую брешь между домами и, не сговариваясь, юркнули в неё в надежде выскочить на улицу К. Маркса. Но не тут-то было: мы наткнулись на глухую стену высотой не меньше двух с половиной метров и поняли, что доблестные охранники королевских роз загнали нас в капкан. Несмотря на безысходную ситуацию, мы не могли скрыть друг от друга восхищения великолепно, как по нотам, разыгранной комбинацией.
Но ведь прекрасные розы ждала не менее прекрасная женщина. Это придало нам решимости и мобилизовало оставшиеся ресурсы. Юра подставил спину и приказал: "Вперед и вверх!" Я, как петух на осла в "Бременских музыкантах", вспорхнул другу на спину и, взмахнув ещё раз крылами, оказался на стене. Надеюсь, оставшуюся часть фантастического перелета через неприступную преграду читатель совершит без нашей помощи, а мы с Юрой, оказавшись по другую сторону рубикона, триумфально ушли по улице К. Маркса в родную общагу, не обронив ни единого лепестка и не уронив рыцарской чести.
Финал этой, похожей на сказку, но тем не менее действительной и, слово в слово, правдивой истории представляет, надеюсь, ничуть не меньший интерес. На подступах к концертному залу, где должен был состояться концерт дивы, царил ажиотаж. Как можно было пробиться сквозь эту уплотненную до предела массу поклонников певицы, готовых отдать ей свои сердца, но не имеющих возможности сделать это без билетов на руках, лично я не представлял. Но надо было совершенно не знать поэта Юру Ведерникова, чтобы допустить мысль, что такой пустяк, как отсутствие билета, может его остановить. "Товарищи! Дорогу гвардейцам кардинала! Дорогу корреспондентам газеты "Вечерняя Казань!" – с этими Юриными восклицаниями (Юра с увесистым фотоаппаратом впереди, а я с охапкой роз следом за ним) под аккомпанемент настоятельных требований организаторов эпохального мероприятия и стражей порядка (слава богу, ими оказались не охранники роз): "Пропустите корреспондентов!!" – мы, как на крыльях, влетели в огромный зал. Юра сказал, что розы непременно должен вручать я, так как он написал стихотворное послание, и что увиливать от непростой, но тем не менее неотвратимой процедуры – с моей стороны крайне нечестно. От такого предложения у меня подкосились коленки и на весь зал стали дребезжать челюсти. Я оказался полностью профнепригоден. Так что эту почетную миссию Юре пришлось взять на себя, что он и исполнил с присущим ему блеском.
Однако продолжим прерванную экскурсию, а для этого нам нужно вернуться на поле чудес, то бишь на поле благоуханных роз, но варварски резать мы их на этот раз не станем. Итак, справа, у ваших ног, распростерся 5-й учебный корпус КАИ, слева, за полем роз, – Дом офицеров, и, на дальнем от вас правом крыле площади, – великолепный белокаменный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Не поленитесь пройти к зданию знаменитого театра и полюбуйтесь на него, что называется, в упор.
Возвращаться лучше по улице Карла Маркса, на которую вы легко и естественно попадете, повернув направо от оперного театра (она идет параллельно Б. Красной). Через те же два-три квартала вы вновь окажетесь на улице Красина и по ней замкнете круг у парадного подъезда благословенного общежития. Но не торопитесь: я ведь не случайно повел вас по ул. К. Маркса. На углу улиц К. Маркса и Красина стоит главный корпус Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева. Он представляет собой белое монументальное здание, фасад которого венчает мощная колоннада. Выполненное, как и общежитие на Б. Красной, в стиле ампир, оно содержит в своей утробе все полагающиеся для большого вуза административно-управленческие органы и службы: ректорат, бухгалтерию, планово-экономический отдел и пр. Кроме того, в нем расположен деканат, кафедры и учебные аудитории второго, двигательного факультета. Некоторые предметы, например, металловедение и ликбез по двигателям проходили и мы, первый факультет, в этом здании.
Но наша экскурсия еще не закончилась. Мы еще не побывали на знаменитой реке Казанке, куда мы бегали купаться. Начинаете с той же самой исходной точки. Выходите из общежития, резко разворачиваетесь налево, делаете марш-бросок в несколько десятков метров по ул. Красина, и вы – на песчаном бреге прекрасной реки. Если после купания захотите продолжить историческую экскурсию и попасть в Кремль, то вам всего-навсего нужно пройти (пробежать) по дамбе 200 – 300 метров, и вы окажетесь по другую сторону от главного входа в Кремль (справа вы увидите мост через Казанку), откуда можно подняться на кремлевскую стену и прогуляться по ней, обозревая виды на старинную, историческую часть города.
Не устали еще? Тогда совершим еще одну экскурсию, надеюсь, последнюю. Если от главного здания КАИ пойти по улице Красина в противоположную от общежития сторону, то буквально через 50 –70 м мы с вами выйдем на Черное озеро и увидим красивый парк слева от него. Это излюбленное, знаковое место всех без исключения студентов, не только нашего института. Зимой там можно кататься на коньках; осенью прогуливаться по пестрому, приятно шуршащему, ласкающему слух ковру, наслаждаясь богатой палитрой увядающего парка; весной вдыхать одурманивающий аромат пробуждающейся природы; летом укрываться от душного зноя и пыли. Кроме того, в любое время года Черное озеро служило нам транзитным перевалочным пунктом, сразу за которым начинался большой шумный город и куда мы совершали паломничества в кинотеатры, магазины и на почту (за посылками из родительского дома), а в дни стипендии и после шабашки позволяли себе кафе и рестораны на улицах Ленина и Татарстана. Через Черное же озеро лежала дорога в "седьмое здание КАИ" у подножия краснокирпичного Собора Петра и Павла – полуподвальную кафе-пельменную, где, независимо от стипендий и шабашек, мы могли сравнительно недорого побаловать себя настоящими "домашними" пельменями в различных вариациях кулинарного искусства.
Вот такая занимательная география и такая богатая событиями история окружает наше общежитие, наше прибежище, в котором мы провели самые лучшие годы нашей героической молодости. Ну скажите, где еще можно найти такое замечательное во всех отношениях место?
Давно уже пора познакомиться с интерьером нашей обители. Для этого нужно войти в святая святых через высокие двустворчатые двери парадного подъезда. Слева у входа вы увидите молодого человека, сидящего за столом, реже – молоденькую дивчину. Ни тот, ни другая не обратят на вас ни малейшего внимания: первый, скорее всего, будет погружен в чтение любовного романа, вторая будет вязать шапочку или шарфик, не обязательно для себя. Кто это, спросите вы, и зачем здесь сидят? Это дежурные студенты, а сидят они здесь для того, чтобы проверять пропуска у всех входящих и даже у тех, кого они знают как облупленных. Так почему же они этого не делают, не выполняют своих прямых обязанностей, а вдруг в святая святых проникнет враг?! Они – свободные люди и привыкли уважать свободу других. А враг с каким мечом придет, от того же меча и погибнет.
Смело проходим мимо дежурного и поднимаемся на третий этаж по широкой лестнице, затем поворачиваем направо по коридору и через несколько шагов увидим справа дверь, над которой будет красоваться табличка № 309. Это и есть наша родимая комната. Осторожно открываем дверь и видим перед собой дощатую перегородку, отсекающую от комнаты небольшой уголок, служащий прихожей. Огибаем перегородку справа и оказываемся в просторном квадратном помещении, пол которого покрыт старинным паркетом; этот паркет мы каждую субботу натирали мастикой до зеркального блеска. Вдоль стен расположились железные кровати с панцирными сетками, аккуратно, по-армейски, застеленные; у каждой кровати тумбочка. На противоположной от входа стороне – большое окно и дверь на балкон, на котором в теплую погоду кто-нибудь из нас устраивал ночлег. Посредине комнаты стоит большой круглый стол. На левой стене Миша Левтеров нарисовал огромный самолет ТУ-144, который был пока еще в конструкторской разработке, а на правой – березовую рощу. На тыльной стене – встроенные шкафы. В комнате нашей было всегда чисто, светло и уютно. Курили только на кухне или в туалете. Завтракать и обедать ходили в общежитие двигательного факультета, расположенного напротив нашей общаги. Ужин, как правило, готовили сами на общественной кухне.



