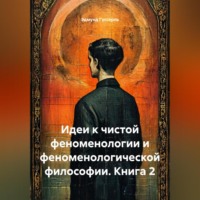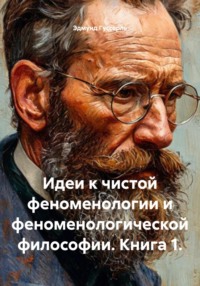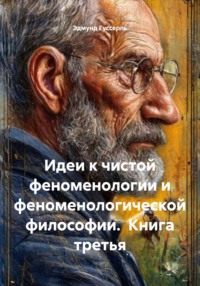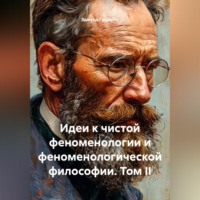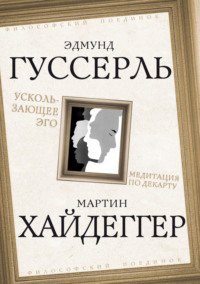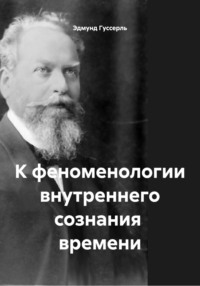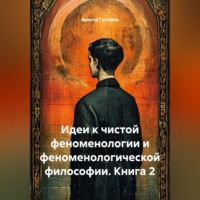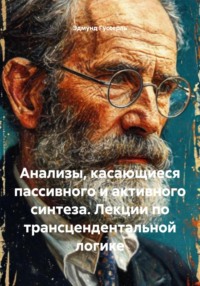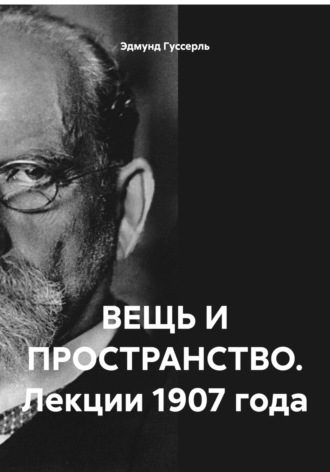
Полная версия
ВЕЩЬ И ПРОСТРАНСТВО. Лекции 1907 года
Но если мы обратим внимание на имманентное содержание восприятия, мы обнаружим постоянное оттенение желтого, и ясно, что здесь существует необходимая связь: только если такое оттенение ощущается, представляется равномерно окрашенная сфера. И снова мы имеем указание на то, что тождество объективных определений совместимо в области собственного восприятия не только с изменением или непрерывным изменением содержаний ощущения, но что для многих определений это необходимо требуется. Приближаясь к сфере или удаляясь от нее, мы имеем постоянно новые восприятия. Момент протяженности внутри ощущения требует непрерывного изменения, если многообразные восприятия должны обрести единство в сознании: Это та же сфера, неизменная в своей протяженности и форме.
Таким образом, тождество объективного признака никоим образом не означает тождества соответствующего ощущения. Ощущение не предлагает удвоения признака. Восприятие, следовательно, не содержит образа объекта, если брать слово «образ» в его обычном смысле, как вторую вещь, которая является репрезентантом оригинала путем сходства. Восприятие не содержит ни повторения целой вещи, ни таких индивидуальных признаков. Теория образа, с какой стороны ни посмотри, противоразумна. Здесь мы имеем одну из этих сторон.
§15. Представляющие содержания и аппрегензия (восприятие).
Пойдем дальше. Предварительно слово «ощущение» означает лишь то, что в восприятии реально [reell] пребывают определенные содержания, которые находятся в определенном отношении к соответствующим содержаниям воспринимаемого объекта, так что мы можем противопоставить цвет как реально [reell] данный момент в само-полагании восприятия и цвет воспринимаемого объекта. Эти реальные [reell] содержания сами мы называем содержаниями ощущений. Согласно уже сказанному, их комплекс не составляет всего содержания восприятия. Мы уже упоминали о данных очевидности, указывающих, что комплекс содержаний ощущений весьма изменчив, и все же соответствующие восприятия по самой своей сущности выдают себя за восприятия одного и того же объекта. Обратно, верно и то, что один и тот же комплекс содержаний ощущений может быть основой различных восприятий, восприятий различных объектов, как доказывает всякий манекен: ибо здесь, с фиксированной точки зрения, в конфликте находятся два восприятия – восприятие манекена как вещи и восприятие представляемого человека, – оба построенные на одном и том же фундаменте ощущений. Это соображение обращает наш взор на избыток, который, помимо комплекса ощущений, реально [reell] обнаруживается в восприятии и который в самой интимной сращенности с ощущаемым впервые конституирует восприятие. Содержания ощущений сами по себе еще не содержат ничего от характера восприятия, ничего от его направленности на воспринимаемый объект; они еще не то, что полагает объект как налично-данную в плоти вещь. Этот избыток мы называем аппрегензионным характером [Auffassungscharakter], и мы говорим, что содержания ощущений подвергаются аппрегензии [Auffassung]. Эти содержания сами по себе были бы, так сказать, мертвой материей, но благодаря аппрегензии они обретают одушевляющее значение таким образом, что становятся способны представлять объект. В этом отношении мы называем содержания представляющими содержаниями [darstellende Inhalte], в противоположность тому, что в них представляется, а именно определениям объекта.
Поскольку нам уже выделился как изменчивый момент восприятия момент полагания [Stellungnahme], такой как вера, неверие и т.д., то очевидно, что теперь мы схватываем понятие аппрегензии столь узко, что эти различия для него нерелевантны и что оно, тем самым, относится к чистому восприятию.
Таким образом, именно аппрегензия отличает восприятие с само-полаганием [selbstsetzende Wahrnehmung] от представляющего восприятия [darstellende Wahrnehmung]. Лишь в последнем осуществляется отношение к воспринимаемому объекту таким образом, что реально [reell] имманентное восприятию содержание функционирует как представляющее [darstellend], как такое, которое не просто схватывается, но аппрегендируется [aufgefaßt wird] как нечто, чем оно само не является, но что является с ним и в его аппрегензии. Это первый, весьма грубый анализ. Нам еще предстоит исследовать, что заключено в этой «аппрегензии». И необходимо учитывать ограничение типом так называемых внешних восприятий, восприятий физических вещей.
Содержания ощущений функционируют во внешнем восприятии как представляющие содержания. Можно было бы установить понятие ощущения посредством этой функции, т.е. беря ощущение в отношении к восприятию, и тогда можно было бы сказать, что ощущаемые содержания в противоположность воспринимаемым содержаниям означают те, которые функционируют как представляющие. Это было бы очень важным и фундаментальным понятием ощущения; и мы действительно будем его использовать. С другой стороны, ясно, что во внешнем восприятии представляющие содержания различаются посредством их собственного внутреннего характера; они могут принадлежать к весьма разнородным родам: цвет, звук и т.д. Однако, сколь бы широки здесь ни были различия, все содержания, которые должны быть способны функционировать как представляющие для восприятия вещи, обладают внутренним родством. Они подпадают под высший род, подлинный, сущностно единый род, который также может служить для определения понятия ощущения. Возможно, действительно будет лучше обозначить этот род другим именем: чувственное содержание [sinnlicher Inhalt]. Правда, имя «чувственное содержание» имеет свои недостатки, так как оно указывает именно на функциональное истолкование, и мы также говорим о внутренней чувственности. Желательно было бы другое имя.
Когда Брентано говорит в своей блестящей психологии о физических феноменах [physische Phänomene], он имеет в виду именно эти содержания. Это несомненно, несмотря на некоторые отклонения. Чтобы избежать двусмысленного слова «феномен», мы могли бы обозначить этот класс также как класс абсолютно физических данностей [absolut physische Daten]. То есть в рамках тотальной сферы абсолютных данностей, и более точно, в рамках реальных [reell] данностей, отграничиваются те, что способны функционировать как представляющие содержания физических вещей и по этой причине сами могут быть названы физическими данными. Тем не менее, поскольку они способны к этому свершению на основе своего внутреннего родового типа, мы можем использовать это имя для самого этого родового элемента. Очевидно, что род физических данностей "toto coelo" [в корне, совершенно] отличается от того, что, как одушевляющая аппрегензия и как мнение, вера, сомнение и т.д., называется, в не вполне проясненном смысле, сознанием. Физическая данность и аппрегензия не только различаются фундаментально и по сущности, но также ясно, что их функции не взаимозаменяемы: физическая данность, содержание ощущения, не может функционировать как аппрегензия, а аппрегензия не может функционировать как содержание ощущения (последнее, по крайней мере, в случае внешнего восприятия). Впоследствии нам придется рассмотреть, не может ли то, что здесь включается под неясным титулом сознания, само со своей стороны также подвергаться аппрегензии и конституировать трансценденции сущностно новой группы, психические трансценденции. Если бы это было так, то нам пришлось бы говорить о физических и психических ощущениях, в различении, которое соответствовало бы, по крайней мере отчасти, не проясненному различению внешнего и внутреннего чувства.
Физические данности мы находим, как правило, связанными с одушевляющей аппрегензией. Если мы делаем их объектами само-полагания, то мы либо берем в качестве объекта целое единство физической данности и аппрегензии, т.е. целое восприятие, либо абстрагируемся от аппрегензии, взирая исключительно на физическое. Но мы не можем сказать, что здесь имеет место абстракция того рода, который вычленяет неотделимые моменты, такие как интенсивность тона в абстракции от высоты и т.д. Нельзя сказать априори, что физическая данность требует аппрегензии, т.е. что она должна функционировать как представляющее содержание. Подобным же образом, вопрос, который нельзя решить без дальнейшего рассмотрения, заключается в том, является ли в восприятии интерпретирующая аппрегензия непосредственно единой с физическим содержанием, или же это последнее сначала имеет свое имманентное сознание, и трансцендентное «аппрегендирующее» затем надстраивается над ним как дальнейший модус сознания. Различение между чистым восприятием [Perzeption] и апперцепцией [Apperzeption], играющее столь двусмысленную роль в современной психологии и теории познания, часто понимается даже таким образом, что чистое восприятие или чистое ощущение должно обозначать простое обладание, а именно имманентно-воспринимающее сознание содержания, а апперцепция тогда обозначает аппрегензию, надстраивающуюся над ощущением и выходящую за его пределы.
Таким образом, мы не можем принять это описание в том виде, как оно дано, ибо мы, конечно, осознаем чистое восприятие как восприятие, направленное исключительно на физическое содержание, а именно на само-полагание; но рефлексия не показывает, что это последнее содержится в нормальном восприятии вещи. Физическое содержание "проживается" [erlebt] целым восприятием, которое содержит его и его аппрегензию имманентно. Но термин «проживаемый» не означает, даже в отношении аппрегензии, что она является объектом реально [reell] имманентного восприятия, само-полагания; «проживаемый» без дальнейших пояснений не означает «сознаваемый» [bewußt] в смысле «бытия-сознаваемым» [Gewußtsein]. Об этом нам еще предстоит поговорить.
В любом случае, мы будем избегать этой противоположности между перцепцией и апперцепцией. Мы будем называть восприятие, согласно обычному смыслу слова, простым восприятием; просто мы не включаем в него момент полагания. И мы предпочитаем полностью избегать двусмысленного слова «апперцепция»; термина «аппрегензия» достаточно, как давно отстаивал Штумпф.
То же самое, что мы называем восприятием, т.е. содержания аппрегензии, взятые в их аппрегензии, образует в целом четко определенное понятие «перцептивного представления» [perzeptive Vorstellung], понятие, которое часто противопоставляется понятию чистого восприятия. «Чистое представление» [bloße Vorstellung] еще не есть суждение. Восприятие, по крайней мере нормальное восприятие, включает в себя «веру», полагание и т.д. Еще раз, наше понятие восприятия и соответствующий анализ приводят к прояснению понятия явления [Erscheinung], специфически понимаемого как перцептивное явление. Говоря о «явлении объекта», мы не предрешаем, существует ли являющееся или нет; даже в галлюцинации мы имеем явление. Таким образом, явление, очевидно, есть не что иное, как восприятие.
Ключевые термины и пояснения:
1. reell / реально: У Гуссерля означает имманентно присущее акту сознания, его подлинную составную часть (в отличие от real, относящегося к реальному миру).
2. Аппрегензия (Auffassung): Фундаментальный акт сознания, посредством которого сенсорные данные ("сырые" содержания ощущений) истолковываются, "схватываются" как нечто, как объект с определенным смыслом. Часто переводится как "истолкование", "усмотрение", "схватывание". Здесь сохранен термин "аппрегензия" как наиболее специфичный для феноменологии.
3. Содержание ощущения (Empfindungsinhalt): "Сырые", неинтерпретированные сенсорные данные (цветовые пятна, звуки, тактильные качества и т.д.).
4. Представляющее содержание (darstellender Inhalt): Содержание ощущения, "функционирующее" в акте аппрегензии как представитель (репрезентант) свойства или аспекта воспринимаемого объекта (например, цветовое пятно "представляет" цвет книги).
5. Само-полагание (Selbstsetzung): Акт, в котором объект полагается как существующий (например, момент веры в восприятии).
6. Представляющее восприятие (darstellende Wahrnehmung): Восприятие, в котором происходит аппрегензия сенсорных данных как представляющих трансцендентный объект.
7. Физическая данность (physisches Datum): Абсолютно данное в имманентном потоке сознания чувственное содержание, способное (в силу своей природы) функционировать как представляющее содержание для восприятия физических вещей. Синонимы: чувственное содержание (sinnlicher Inhalt), физический феномен (physisches Phänomen).
8. Проживание (Erleben): Способ данности содержаний сознания, не обязательно предполагающий их тематизацию (объективацию) в акте внимания.
9. Чистое представление (bloße Vorstellung): Представление объекта без акта полагания его существования (без "веры").
10. Перцептивное представление (perzeptive Vorstellung): Представление, основанное на восприятии (часто противопоставляется "чистому восприятию" как включающее аппрегензию).
11. Явление (Erscheinung): Сам акт восприятия или его имманентное содержание, в котором объект является сознанию, независимо от его реального существования.
12. Perzeption / Апперцепция: В тексте критикуется традиционное различение (Perzeption = простое имманентное обладание содержанием; Апперцепция = истолкование, схватывание смысла). Гуссерль предлагает избегать термина "апперцепция", используя "аппрегензия" для обозначения истолковывающей функции, а "простое восприятие" – для акта, направленного на имманентное содержание (без полагания).
§16. Объект апперцепции как явление. Явление в собственном смысле.
Тем не менее, узкое понятие явления тотчас само себя ограничивает, если мы учтем уже указанное различие между тем, что воспринимается "собственно", или, точнее, "собственно" воспринимаемым, и тем, что воспринимается в "несобственном" смысле. Мы видим, говорят, дом, но собственно мы видим лишь лицевую сторону. Лишь определенные определения объекта, а именно те, что входят в заглавие "лицевая сторона", собственно входят в объем восприятия. Но это означает, что лишь они собственно презентированы. В действительности, это факты, принадлежащие сфере очевидности, и они демонстрируют свой смысл чисто феноменологически, каким бы ни был случай относительно существования дома. Если мы исследуем содержание восприятия как "телесное содержание" (physischer Gehalt), то обнаружим, что оно во всех своих частях и моментах обладает презентационной функцией, и причем необходимо, но что оно по частям приносит к презентации лишь комплекс объективных определений. Именно этот комплекс мы называем "являющейся стороной" вещи.
Таким образом, мы имеем своеобразное положение дел: восприятие целого не подразумевает восприятия всех его частей и определений. Подразумеваемые восприятия суть отдельные восприятия, возможность которых гарантирована с очевидностью и по существу на основе восприятия как тотального восприятия; и эти отдельные восприятия с очевидностью обосновывают возможность частичного отождествления с исходным восприятием. Если теперь мы придерживаемся одного лишь восприятия, то столь же очевидно, что тотальная апперцепция действительно содержит определенные частичные апперцепции, сколь очевидно, что тотальное телесное содержание реально [reell] включает такие-то и такие-то частичные содержания; это лишь части или частичные апперцепции, которые не извлечены и не выдвинуты на передний план. Об этом извлечении нам еще придется говорить. Если мы теперь шаг за шагом проследим это содержание ощущения, то с очевидностью обнаружим как нечто необходимо ему присущее, что каждый его момент обладает презентационной функцией, особенно ему присущей. Если мы возьмем все эти особые презентации вместе в их единстве, каковое они тогда необходимо образуют, то окажется, что вся апперцепция этим не исчерпывается. Вещь, как данная в восприятии, имеет больше, чем являющаяся или, в "предельном" [pregnant] смысле, воспринятая лицевая сторона; и этому "большему" недостает специально ему соответствующих презентационных содержаний. Оно, в определенном смысле, со-включено в восприятие, но само не приходит к презентации. Содержания ощущения не имеют к нему отношения; они полностью исчерпываются презентацией лицевой стороны. Соответственно, тотальная апперцепция и тотальный феномен восприятия делятся на "собственный феномен", коррелятом которого является сторона объекта, воспринимаемая в собственном смысле и реально приходящая к презентации, и "несобственный феномен" – придаток собственного феномена, чьим коррелятом является остаток объекта. Этот феномен не презентационен, хотя он, конечно, определенным образом делает известным свой объект. Если мы обратим внимание на момент этой "обратной" стороны, то мы уже не сможем сказать о нем, взятом сам по себе, что мы имеем его перед глазами, что мы его интуируем, что мы его воспринимаем. Лишь презентированное воспринимается, дано "интуитивно". Однако собственный и несобственный феномены не суть отдельные вещи; они объединены в явлении в широком смысле. Сознание есть сознание "присутствия дома во плоти" (leibhaftig); это означает, полностью в смысле тотального восприятия: дом "является". Просто лишь простая "сторона" дома реально презентирует себя, и ничего больше вообще не может презентировать себя. Сторона, однако, есть сторона лишь полного объекта. Сторона ничто для себя; она немыслима как сущая для себя. Эта очевидность означает, что собственный феномен не есть нечто отделимое. По своему существу он требует дополнения посредством избытка апперцепционных компонентов, причем выражение "избыток" (Überschuß), естественно, следует понимать "cum grano salis" [с оговоркой], так как мы здесь, собственно, не можем говорить ни о чем подобном сумме.
Мы отмечаем еще дальнейшие особенности. Восприятие2 может быть неполным, поскольку оно воспринимает один кусок объекта, но претендует на схватывание объекта как целого и завершенного. Например, кусок объекта, возможно, дерева, скрыт, и тем не менее в видении мы имеем сознание: дерево есть здесь, во плоти. Здесь апперцепция – и вместе с ней перцептивная интенция – выходит за пределы презентации, и не только за пределы презентированной лицевой стороны, но и за пределы единственного собственно воспринятого куска дерева. Но здесь мы говорим о собственно воспринятом (и, в отношении скрытого куска дерева, о несобственно воспринятом) очевидно в ином – хотя и родственном – смысле, нежели когда мы говорим о собственно и несобственно воспринятом применительно к собственно являющейся лицевой стороне и собственно не являющейся обратной стороне. "Односторонность" внешнего восприятия, то обстоятельство, что оно дает вещь к собственной презентации лишь в одной из ее сторон, что вещь дана восприятию лишь через посредство выступающего (in Relief) феномена, есть радикальная неполнота; и это относится к сущности всех тех восприятий, которые мы включаем под титулом восприятий физических вещей, или внешних восприятий. Восприятие по кускам – иное. Дерево не нуждалось бы быть скрытым в отношении тех кусков, которые фактически были скрыты. Эта скрытость могла бы прекратиться; я тогда увидел бы все дерево. В любом случае, однако, я вижу его лишь с одной стороны. Если дерево частично скрыто, то я вижу в собственном смысле только сторону куска дерева, хотя апперцепция направлена на кусок согласно всем вовлеченным в него сторонам и затем, далее, не только на этот кусок, но и на дополнительный кусок, тот, что ведет к полному дереву, кусок, никакая "сторона" которого не приходит к явлению.
Дополнение куска указывает на конституцию в апперцепции, отличную от дополнения, которое ведет нас за пределы являющейся стороны к полной вещи. Сторона действительно есть нечто несамостоятельное (unselbständig); кусок есть нечто самостоятельное (selbständig). Точнее, кусок может существовать для себя; вещь все еще оставалась бы вещью, если бы она свелась к куску. Но вещь не может быть сведена к стороне; сторона есть, очевидно и необходимо, то, что она есть, лишь как сторона. Вещь, презентирующая себя в стороне, могла бы быть многообразно иной, чем она аппрезентирована в апперцепции; она могла бы быть определена в своей внутренности и в своих других "сторонах" совсем иначе, чем она определена в апперцепции, в то время как являющаяся сторона остается идентично той же самой. Тем не менее, по необходимости и в каждом случае, некоторые дополнительные стороны или же связи дальнейших несамостоятельных определений должны быть конституированы в апперцепции, чтобы объект вообще мог презентировать себя в являющейся стороне.
Здесь обитает3, следовательно, сущностная неадекватность в каждом отдельном внешнем восприятии, которое есть восприятие пространственных вещей и как таковое может быть только "односторонним". Трехмерная интуиция, мы могли бы также сказать, как "собственная" интуиция, та, что приносила бы к презентации сразу все полное содержание вещи в каждой из ее конститутивных частей и моментов, внешних и внутренних, передних и задних, невозможна. Существует лишь "несобственная" интуиция пространства. Это имеет силу для момента пространственной формы так же, как и для основанной на ней пространственной наполненности (Fülle). Во всяком случае, это имеет силу в отношении презентационных форм и средств, которыми мы располагаем феноменологически; таким образом, это имеет силу для специфической сущности телесных содержаний и форм апперцепции, которые мы находим в феноменологической интуиции и которые ограничивают нашу идею внешнего восприятия. Мы не можем теперь отважиться утверждать, что сущность телесных содержаний вообще необходимо подразумевает, что они, как лежащие в основе ощущения презентационных восприятий, могут обосновывать лишь односторонние восприятия вещей.
Наряду с односторонностью восприятия необходимо дана также неполнота в схватывании куска вещи. Мы не можем собственно воспринять каждый кусок вещи сразу. Куски дерева, видимые только сзади, не могут прийти к явлению в восприятии спереди, и наоборот. Но эта неадекватность проистекает из сущности односторонней презентации. Односторонность первична; невидимость, собственно говоря, кусков, которые презентируют себя в других сторонах, вторична – именно потому, что кусок, точно так же как и завершенная вещь, требует презентации и может являться лишь в "стороне". Следует отметить в этой связи, что членение, которое мы ввели в вещь, разнимая ее, должно быть четко отлично от того, которое вещь носит в себе согласно смыслу апперцепции. Например, дерево стоит там в восприятии как артикулированное целое, артикулированное согласно стволу, ветвям, листьям. Это артикуляции, которые пред-усмотрены изначально в тотальной апперцепции; дерево "интендировано" как артикулированное целое, и лишь постольку, поскольку артикуляции интендированы, лишь постольку, поскольку они конституированы в артикуляции апперцепции, лишь в той мере они не введены через последующие членения, хотя возможность этих последних может быть укоренена в сущности тотальной апперцепции. Я действительно могу рассматривать ствол и интуировать его пункт за пунктом, кусок за куском, и судить, что каждый из этих пунктов и кусков есть в целом. Но прямое исходное восприятие не нуждается поэтому в том, чтобы интендировать дерево в смысле всех этих артикуляций, чтобы объективировать его как таковое в своей апперцепции. Соответственно, мы не можем сказать, что, видя лишь лицевую сторону вещи, мы видим, собственно говоря, лишь кусок ее, а именно кусок вещи, обращенный к нам, и не видим остальных ее кусков. Лицевая сторона может, в принципе, быть лицевой стороной по отношению к сколь угодно многим кускам, согласно тому, как мы проводим их разграничение. Но эти разграничения есть нечто последующее, вмышленное в вещь, потенциальность, основанная в сущности – но не актуальность. Лицевая сторона есть скорее тотальное единство определений вещи, которые входят в собственный феномен; с ними сама вещь является, а не произвольно принятая лицевая сторона вещи. Но куски, принадлежащие вещи как данной перцептивно, согласно одушевляющей апперцепции, частично презентированы в "лицевой стороне", а частично не презентированы. Как это обстоит в каждом данном случае, есть как раз забота соответствующего восприятия.
Выдвижение на передний план двух моментов во внешнем восприятии, как они взаимно требуют друг друга, моментов, которые мы обозначили титулами собственного и несобственного феномена, порождает еще дальнейшие соображения.
Собственный феномен придает единство тотальному комплексу ощущений в восприятии, комплексу, который несет презентационную функцию4, и тотальному содержанию физических данных, осуществляющих в нем функцию ощущений, посредством которых сторона объекта, его выступающий феномен (Erscheinung in Relief), презентирует себя. Презентация есть, нас искушает сказать, презентация "через сходство" (durch Ähnlichkeit), хотя здесь требуется осмотрительность, так как мы вовсе не используем слово "сходство" в естественном смысле. Цвет презентирует цвет, ощущаемая шероховатость – шероховатость объекта и т.д., но, как мы уже упоминали однажды и поймем еще глубже, это происходит таким образом, что презентируемое не есть некое второе, лишь трансцендентное, телесное содержание, а есть нечто объективное, что по своей природе никогда не может стать содержанием и поэтому радикально отлично от содержания.