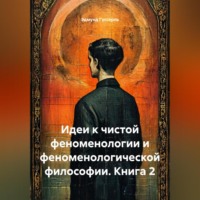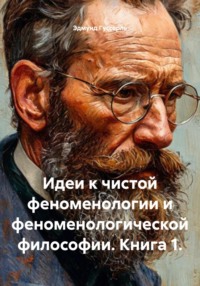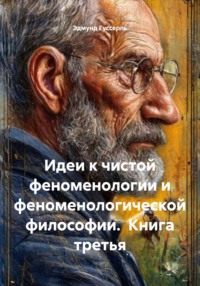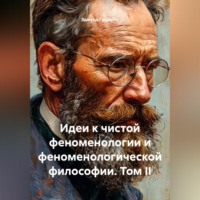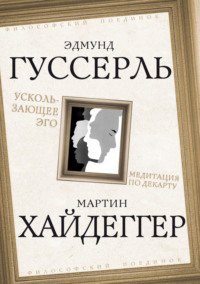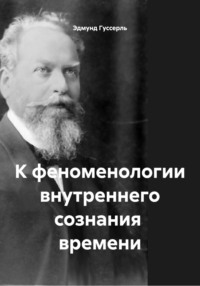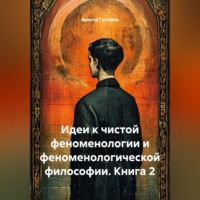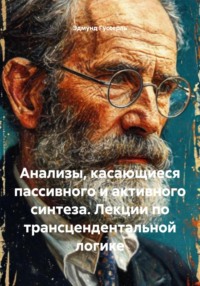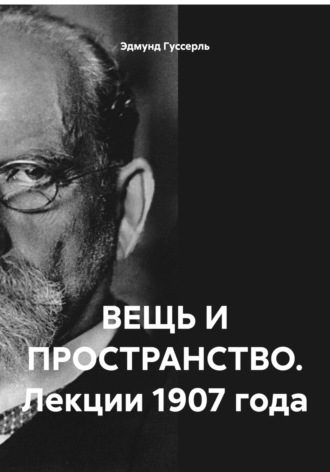
Полная версия
ВЕЩЬ И ПРОСТРАНСТВО. Лекции 1907 года
В каждой временной фазе явленности вещи является вещь, та же самая вещь по содержанию, и это относится также к каждому определению, выстраивающему содержание вещи. Но вещь имеет свое время, она простирается сквозь время и наполняет тем или иным временным промежутком содержание своего бытия. Таким образом, время есть форма, имеющая свою наполненность, и эта наполненность есть то, что мы только что назвали содержанием вещи.
Однако вещь не является в восприятии как просто вещное содержание, что очевидно есть чистая абстракция; напротив, является вещь как тем или иным образом временно простирающаяся, тем или иным образом наполняющая время. Вещь целостная и полная есть нечто временно протяженное, конкретное единство (concretion), наполняющее время вещным содержанием. Феноменологически, вещное содержание конституируется в каждой фазе дофеноменальной протяженности явленности; каждый поперечный срез содержит моменты ощущения и апперцепции и включает как собственную, так и несобственную явленность. С другой стороны, в фазе, поскольку она есть фаза, и в континууме фаз, наконец конституируется временность вещи во всей феноменальной протяженности; эта временность также является и является перцептивным образом. Привести к явленности временно протяженную вещь – есть сущность конкретного восприятия, которое, именно как конкретное, имеет свою доэмпирическую протяженность или доэмпирическую временную форму, которая и конституирует временную форму вещи. Если мы говорим о форме интуиции и, здесь, о форме восприятия, то мы не должны смешивать две формы, из которых одна реальна [reell] и имманентна, другая интенциональна и объективна.
Выражение уместно, поскольку мы, конечно, не будем понимать под интуицией интуируемое или под восприятием воспринятое, относясь исключительно к имманентной протяженности воспринимающей явленности как таковой. Форма придает оформляемому единство, а именно, упорядоченное единство. Временная форма восприятия придает единство, и в частности единство непрерывного ряда, содержанию ощущения всех фаз и равным образом фазам апперцепции. Это единство есть, повторяю, непрерывное и тем самым неразрывное единство. В нем различимы отрезки и абстрактные фазы, но фазы и отрезки не существуют сами по себе, ни связаны они через последующие синтезы. Напротив, единство первично. Восприятие есть в любое время и необходимо непрерывное единство. В его сущности укоренена возможность дифференциации как фрагментации и как абстрагирования в фазы, но это именно лишь возможность. Если мы осуществляем такую дифференциацию, то есть если из восприятия выделяются две фазы, то они вступают в синтез отождествления. Точнее, в сущности этих фаз укоренена возможность их соединения в единстве синтетического отождествления. Обе принадлежат «одной и той же» вещи, которая предстоит непосредственно как непрерывно единая в непрерывном единстве восприятия. Если вещь неизменна, то обе фазы представляют то же самое вещное содержание, но как наполняющее разные точки являющегося времени. И то же самое относится к отрезкам, выделенным из того же дофеноменального временного промежутка одного восприятия.
Это – первое, еще весьма грубое начало феноменологического анализа времени. Самый беглый взгляд на случай изменения уже показывает, что с этого начала мы продвинулись недалеко и не внесли ясность в глубокие темные бездны сознания времени.
К сущности изменения также относится достижение данности в явленностях внутри временно протяженного восприятия. Здесь, однако, отрезкам и фазам восприятия не соответствует то же самое содержание в отношении ощущений и в отношении апперцепций. Вещь является как находящаяся в процессе изменения, то есть она является в каждой воспринимающей фазе как иначе определенная, хотя, конечно, та же самая вещь. Что конституирует здесь тождество вещи и что – ее инаковость от момента к моменту? Если каждая фаза восприятия предлагает то же самое временное содержание, тот же самый материал ощущений и ту же самую апперцепцию (по меньшей мере, поскольку абстрагируются от момента временности), то, по-видимому, нет особой трудности. Но там, где материал ощущений и апперцепция изменяются и необходимо должны изменяться, возникает вопрос, как единство должно конституироваться внутри непрерывной инаковости. Правда, мы вскоре увидим, что даже в случае покоя не все ясно. Ибо просто говорить о протяженности восприятия, в которой конституируется временная протяженность вещи, еще не проясняет это конституирование. Каждая фаза восприятия действительно полагает временную точку. Каждая фаза обладает, таким образом, в своей апперцепции не только моментами, относящимися к определениям вещи согласно ее временно-наполняющему содержанию, но также имеет момент, в котором конституируется временная точка. Так ли это простое дело, что здесь не остается дальнейших вопросов? Что придает этому моменту апперцепции радикально иное положение, сущностно иной характер, так что в нем может проявиться столь фундаментальное различение, как между временной точкой и временным наполнением? Что делает понятным удивительное различие между «теперь» и «только что прошедшим», а также вечную драму Now, вечно заново само себя порождающего и Now, вечно заново погружающегося в прошлое? В свою очередь, каждое прошлое, подобно каждому Now, захвачено вечным движением: оно постоянно отступает все дальше, и прошлое становится более отдаленным прошлым и т.д. Если время, таким образом, предстает как вечный поток, низвергающий все временное в бездну прошлого, то, с другой стороны, время имеет значимость как вечная и неизменная форма, поскольку каждое бытие сохраняет свою позицию во времени. Даже бог не может изменить временные позиции событий в прошлом.
Здесь пребывают огромные трудности, до сих пор ставившие в тупик проницательность величайших умов. Мы еще посвятим собственные усилия этим трудностям. Пока же мы их опустим. Наше настоящее стремление будет лишь повсюду пытаться обнажить основные линии широкими мазками. Мы будем продвигаться еще на одном уровне.
§20. Пространственная протяженность явления: materia prima и materia secunda.
Временная протяженность имеет своей сестрой пространственную. Мы хотим бросить взгляд и на последнюю. Подобно временности, пространственность принадлежит к сущности являющейся вещи. Являющаяся вещь, изменяющаяся или неизменная, длится и заполняет время; более того, она заполняет пространство, "свое" пространство, даже если оно может быть разным в разные моменты времени. Если мы абстрагируемся от времени и выхватим точку длительности вещи, то к заполняющему время содержанию вещи принадлежит пространственное протяжение вещи. Мы вновь имеем пространственную форму и пространственное заполнение. То, что заполняет пространство, есть материя (matter), термин, который мы должны понимать здесь в совершенно наивном смысле, а именно в том смысле, который предписывает нам восприятие: то, что предстает в восприятии как заполняющее пространство.
Очевидно, что эти два понятия – пространственная форма и материя (пространственное заполнение) – не охватывают всех определений временного заполнения, которые мы приписываем вещи как данной в восприятии. Или, как мы можем также сказать, они все включены или не включены в зависимости от того, принимаем ли мы всерьез понятие материи как заполняющей пространство. Здесь возникает весьма значительное различение. Мы первоначально различали пространственную форму и материю. С одной стороны, у нас телесная структура и ее определения, такие как поверхность, угол, ребро, а с другой стороны – качества, которые покрывают и заполняют пространство, например, окраски, простирающиеся по поверхностям и различающиеся друг от друга на ребрах, а также тактильные определения, такие как гладкость, шероховатость, липкость, и термические определения и т.д. В зрительном восприятии они видны в вещи, в тактильном восприятии они осязаются, и при ощупывании объекта они обнаруживаются как заполняющие пространство.
Но этим не исчерпываются все чувственные определения являющейся вещи. Что насчет акустических качеств? В восприятии они отнесены к объекту; по самому своему смыслу они принадлежат ему, но они не заполняют объект в первичном и собственном смысле: то есть они не заполняют его пространство. Например, звук скрипки не только слышен, он также схватывается как звук скрипки. Но он отнесен к скрипке совершенно иначе, чем зрительные или тактильные определения скрипки, данные в зрительном или тактильном восприятии. Феноменально уже должен наличествовать объект, чтобы звук мог быть отнесен к нему. Тем самым выражено определенное опосредование: телесное протяжение материализуется, в первичном и собственном смысле, посредством определенных определений, комплекс которых составляет "materia prima". Тем самым уже конституируется полный вещный объект; мы имеем здесь уже пространственно заполненное единство. Теперь, однако, наступают дальнейшие определения, которые присоединяются к объекту и в определенном смысле составляют "materia secunda".
Это и был бы подлинный и весьма значимый смысл различения первичных и вторичных качеств. Однако мы не можем пользоваться этой исторически ошибочной терминологией. Но мы должны провести здесь различение, и поэтому мы будем говорить, например, о материализующих определениях (materializing determinations) в противовес лишь присоединенным (appended). Материализующие определения заполняют пространственную форму как ее "materia prima" и таким образом создают – поскольку пространственная форма сама по себе есть ничто и не может быть чем-либо – вещь как конкретное (concretum) в фундаментальном смысле. Если это уже конституировано, тогда оно может принимать присоединенные определения, такие как звук и шум, запах или даже вес и другие эмпирические свойства, которые не сводимы к единичным примитивным чувственным содержаниям. Акцидентальные «деятельности», состояния, свойства воздействия и претерпевания, которые «обнаруживаются» в вещи, предполагают, чтобы быть обнаруженными в ней, уже являющуюся вещь, конституированную с другой стороны.
Мы не должны позволять вводить себя здесь в заблуждение посредством субструкций, которые мы осуществляем с присоединенными свойствами, т.е., приписывая им заполнение пространства, ибо это, как собственное заполнение пространства, отрицается самой их природой. Мы приписываем звуку не только точку в пространстве, из которой он исходит, и тем самым присоединенную локализацию, т.е., поскольку он «излучается» из скрипки, но мы также приписываем ему распространение в пространстве и заполнение пространства. Он заполняет пространство постольку, поскольку он слышен повсюду в пространстве, например, зала. Однако суть в том, что в слушании, в восприятии вообще, мы не воспринимаем и не можем воспринимать никакого пространства, заполненного звуковым качеством. Пространство зала зрительно является как определенное таким-то образом своими телесными границами и границами своих поверхностей. Пол, стены и потолок покрыты зрительными качествами. Так они являются. Но нигде не является звуковое покрытие или иное звуковое заполнение. Мы говорим о распространении звука и о заполнении пространства звуком лишь по аналогии, ведомые, возможно, образом жидкости. Образ есть зрительный или тактильный, образ текучести, представленный в модусе подлинного заполнения пространства. Теперь он служит для аналогизации распространения звуковых эффектов в пространстве. Эти очевидности, относящиеся к вещному объекту явления, ставят дальнейшие проблемы относительно того, как конституируются феноменологически эти различные определения объекта: а именно, пространственные, конститутивные определения и присоединенные.
Здесь первой задачей является установить нечто, что особенно интересует нас в нашем рассмотрении форм единства, а именно тот факт, что даже пространственная протяженность восприятия конституируется в протяженности явления, протяженности, которая принадлежит каждому временному пункту тотального явления и существенно отлична от той, что конституирует темпоральность. Эта протяженность также является непрерывной и единой; она допускает дифференциацию на куски (pieces) и фазы (phases), причем фазы представляют собой пределы, которые могут быть фиксированы лишь абстрактно. Фрагментация поставляет куски тотального явления, которые в свою очередь могут поставлять конкретно автономные явления. И фрагментация происходит снова и снова, пока мы лишь абстрагируемся от того, что относится к конституированию темпоральности в явлении.
§21. Пространственное распространение качеств вещи и презентационных содержаний.
Мы находим здесь непосредственно в сфере физических данных (physical data), в области содержаний ощущения (contents of sensation), протяженность (extension). Здесь действительно различение между первичными, пространство-заполняющими определениями и лишь присоединенными оказывается значимым. Мы должны оставить последние вне рассмотрения и обсуждать только качества, которые собственно заполняют или покрывают вещь, т.е., только содержания ощущения, которые презентируют (present) эти качества. Эти содержания ощущения, например, ощущения цвета, которые презентируют являющуюся окраску, имеют в самих себе протяженность и фрагментируются вместе с фрагментацией тотального явления. Цветовые данные не разрозненны и не бессвязны; они имеют строгое единство и строгую форму, форму до-феноменальной пространственности (pre-phenomenal spatiality). То же самое относится ко всем чувственным данным, которые относятся к собственно пространство-заполняющим качествам как презентационным содержаниям. Здесь также фрагментации до-феноменально заполненного протяжения (pre-phenomenally filled expanse) соответствует фрагментация объективно заполненного протяжения (Objectively filled expanse), тем самым пространственная фрагментация вещи: ее пространство фрагментируется, но вместе с тем фрагментируется и ее заполнение пространства.
Еще раз, поверх протяженности физических данных, продолжается протяженность аппрезентации (apprehension); и таким образом все явление является протяженным. Все явление вещи, в отношении его бытия пространственным явлением, есть явление в протяженности (appearance in extension). Если оно фрагментируется, то тем самым феноменальная вещь фрагментируется в отношении своей объективной пространственности (Objective spatiality) и тем самым одновременно в отношении своего собственного заполнения пространства.
Конечно, отношения здесь более сложны, поскольку пространственность конституируется частично в собственном (proper), частично в несобственном (improper) явлении. Таким образом, фрагментация может осуществляться множеством возможных способов. С одной стороны, абрисная протяженность (adumbrational extension) чувственных данных и присущее им собственное явление могут подвергаться фрагментации, например, когда я выделяю часть стороны вещи, обращенной ко мне, и позволяю части вещи соответствовать ей. Но может быть и так, что фрагментация пребывает исключительно в области несобственного явления. И здесь достаточно указать на то, что временная протяженность явления протекает, так сказать, по одной линии, тогда как пространственность трехмерна и потому предлагает многообразные и весьма сложные возможности фрагментации. Правда, мы не должны просто приписывать феноменологические параллели геометрическим представлениям, но в грубом сравнении мы действительно видим, что осложнения в последнем случае гораздо значительнее.
Еще кое-что следует сказать о способе заполнения пространства. Материализующие определения могут заполнять пространство непрерывно (continuously) или дискретно (discretely), или, говоря точнее, непрерывно повсюду или не непрерывно повсюду и, следовательно, дискретно на отдельных пространственных пределах, т.е., на отдельных «точках», линиях и поверхностях. Заполняющее определение совершает в этих местах «скачок» (leap). Этому соответствуют, в отношении до-феноменального протяжения и до-феноменального заполнения протяжения, параллельные события. Например, до-эмпирический цвет в явлении сферы, предполагаемой как явление равномерно желтой сферы, абрисует себя в отношении своей специфической качествации (specific quality) непрерывно и без скачков, без разрывов (discontinuities). Если сфера разбита на поля, заполненные различными и далеко отстоящими друг от друга цветами, то мы находим в явлении до-феноменальные граничные линии, которые являются линиями разрыва. На этих линиях один цвет скачком переходит в далекий цвет. Случай равномерного покрытия может, таким образом, считаться предельным случаем непрерывности (limit-case of continuity): цвет переходит в цвет без скачка, без изменения. Цвет переходит непрерывно в себя, в противоположность случаям непрерывного абрисирования во все новых нюансах специфической качествации, которые не выделяются рельефно, а, напротив, переходят друг в друга без разрыва. Мы должны различать здесь два вида непрерывности:
1. Непрерывность, принадлежащая пространственной протяженности как таковой и осознающаяся в нас наиболее ясно как имманентный момент, когда мы позволяем неизменности переходить в изменение, например, в непрерывном перемещении качественного разрыва (qualitative discontinuity) по протяжению, заполненному единым образом. Мы непрерывно переходим от точки к точке, от линии к линии.
2. Непрерывность самих заполняющих определений, например, перетекание (flowing over) от качества к качеству, возможно, в переходе от красного через пурпурный к фиолетовому. Заполняющие определения имеют – как мы должны упомянуть хотя бы мимоходом – различные аспекты, способные к непрерывности, аспект качества в более строгом смысле, аспект интенсивности или, в случае цветовых определений, аспект насыщенности (saturation), яркости (brilliance) и т.д.
В то время как непрерывность пространственного, объективного протяжения является всеобъемлющей (thorough), не допускающей ни скачка, ни пробела (hiatus), непрерывность заполнения такова, что она может прерываться разрывом: скачками в отношении цветового тона (color tone), яркости и т.д. Мы не можем здесь вдаваться в детали, хотя феноменологии было бы что исследовать и сказать на этот счет. Мы должны лишь подчеркнуть два главных пункта:
1. Непрерывность есть протяженность, а качественная непрерывность – качественная протяженность. Это по существу подразумевает фрагментируемость (fragmentability) и идеальную возможность абстрактной дифференциации на фазы (abstract differentiation into phases). Каждой фазе соответствует вид (species) качества. И то же самое справедливо для всех аспектов пространственно-заполняющей материи, равно как и присоединенной материи. Все фазы, однако, необходимо принадлежат к одному и тому же роду сущности (essential genus). Непрерывные переходы возможны только между цветовой нюансой и цветовой нюансой, яркостью и яркостью, звуком и звуком. Но они, по сущностному закону, исключены между различными классами, между цветом и звуком, цветовой нюансой и яркостью, звуком и запахом и т.д. Это, очевидно, справедливо и до-феноменально.
2. Если пространственная протяженность находит свое собственное покрытие или материализацию посредством каких бы то ни было качеств, то это качественное заполнение необходимо является вообще непрерывным и может проявлять скачки лишь в отдельных местах. Тем самым непрерывное покрытие посредством одного и того же вида считается постоянным покрытием. Сущность скачка подразумевает, что континуум сталкивается с континуумом того же рода и скачком переходит на «краю» ("edge"). Скачок вызывает фрагментацию и впервые создает «край». Это универсальный закон, который Брентано уже выражал десятилетия назад в лекциях, что если континуум подвергается заполнению посредством определений другого рода, то это может происходить только указанным образом, а именно так, что допустимы лишь изолированные скачки, и они перемежаются между непрерывными покрытиями. Это переносимо, легко видимым образом, в до-феноменальную область. Но потребовалось бы исследование, чтобы сказать точнее, как именно.
§22. Значение различных пространственных наполнений для собственной и несобственной данности. Визуальные и тактильные компоненты явленности.
В прошлый раз мы говорили о материализующих и присоединенных определениях. Первые суть наполнения в первичном и изначальном смысле, то есть таким образом, что с ними конституируется вещь как чисто статическая, пространственно заполненная материя, и тем самым обосновывается возможность того, что дальнейшие определения могут быть присоединены к этой уже конституированной вещи, локализованы в ней и наполнять ее во вторичном смысле.
К сущности материализации вещи относится то, что вещь обладает единой структурой, единым пространством, и все наполнения принадлежат этому одному и тому же пространству. Первично материализующие наполнения бывают различного рода, и каждое такое наполнение обретает единство благодаря пространству вещи. Каждое наполнение распространяется именно в этом пространстве и образует в нем единую материю благодаря этой протяженности. Например, наполнения в классе цветов сливаются в единство окраски; наполнения в классе тактильных определений сливаются в единство тактильных качеств. Поскольку присоединенные определения связаны с этими первичными наполнениями и опосредованы, локализованы и распространены ими, они также получают связное единство, такое как единство запаха, вкуса, боли и даже, как мы услышим позже, температуры. Однако мы ограничимся изначальными наполнениями. Каждое такое определение обладает, таким образом, в себе самом, в силу своего рода, собственной протяженностью и тем самым своей непрерывностью. Оно само по себе протяженно или, соответственно, фрагментируется вместе с фрагментацией вещи. С другой стороны, однако, протяженность окраски та же самая, что и протяженность шероховатости или гладкости, тактильной материи вообще. Единство различных видов материализующих определений основывается на тождественном единстве тела, пространственной вещи: тела, наполненного цветом и тактильными определениями.
Если мы перейдем в доопытную сферу, то не должны безоговорочно утверждать, что там отражается то же самое положение дел, то есть что доопытный цвет обладает той же доопытной протяженностью, что и остальное доопытное наполнение. Если мы рассмотрим распространение, принадлежащее доопытно моменту цвета, и точно так же распространение, принадлежащее моменту осязания, то не сможем сказать, что это один и тот же тождественный момент. Однако давайте приглядимся к этому положению дел. Допустим, у нас есть визуальное восприятие лежащего перед нами листа бумаги; восприятие получает визуальные определения как пространственно-наполняющие, и соответственно перцептивная явленность содержит визуальное распространение, наполненное материей визуального ощущения. Если мы не ощупываем бумагу или, говоря о неизменном восприятии, не кладем руку на бумагу и не держим ее там, и, таким образом, не имеем соответствующих ощущений толщины, сопротивления, гладкости и т.д., то восприятие является лишь визуальным. В другом случае, если мы одновременно видим и кладем руку на бумагу, у нас есть восприятие, смешанное в обоих отношениях, причем, однако, видимые части бумаги не воспринимаются тактильно, а тактильно воспринимаемые части не видны. Таким образом, у нас есть смешанное наполнение, но таким образом, что одним и тем же собственным образом являющимся частям поверхности всегда принадлежит только один вид наполнения. Являющаяся поверхность, которая объективно едина и уникальна, частично покрыта визуально, частично тактильно, и принципиально различные по своему роду наполнения, взаимопроникая, сливаются в единую "materia prima" постольку, поскольку они соединяются как непрерывные, то есть пространственно непрерывные. Они покрывают именно всю являющуюся сторону. С другой стороны, визуальное покрытие, так сказать, пронизывает тактильное, и наоборот, хотя, конечно, не в собственной явленности. Там, где рука покрывает бумагу, цвет тоже есть, но цвет в собственном смысле не виден. А там, где бумага лишь видна, там тоже есть нечто сопротивляющееся, шероховатое или гладкое и т.д., но это не воспринято собственным образом, не ощущено тактильно или, с другой стороны, не увидено.
Это, очевидно, учит нас относительно конституирования явленности следующему: мы должны отметить, прежде всего, относительно различения между собственной и несобственной явленностью, что оно пересекается с различением между, так сказать, разными слоями "materia prima". Если мы проведем фундаментальное различие между визуальным и тактильным слоем "materia prima", то в каждом таком слое мы имели бы собственное единство. И оба вместе вновь образуют единство, а именно единство тотальной, пространственно-наполняющей первоматерии. Если восприятие лишь визуальное, то "сторона" пространственно-наполняющей визуальной материи, как связное наполнение пространства внутри пространственного и собственно являющегося абриса, приходит к собственной явленности. Параллельное тактильное наполнение пространства принадлежит, относительно этой же самой стороны вещи, сфере несобственной явленности. Соответственно, несобственная явленность распадается на два момента или части: 1.) одна включает в себя то в объекте, что вообще не приходит к собственной явленности, и 2.) другая включает в себя то, что, хотя и приходит к собственной явленности визуально, но не приходит к ней тактильно. Передняя сторона видима; она принадлежит собственной явленности. Она не воспринимается тактильно, и поэтому к собственной явленности приходит лишь комплекс визуальных определений, но не комплекс тактильных. Мы также отмечаем, что несобственная явленность задней стороны, которая не видна и не осязаема, по сущности иная, чем несобственная явленность видимой, но не осязаемой передней стороны, то есть в отношении ее тактильных определений. То, что могло бы поразить нас прежде всего, если мы сравним одно и другое определение несобственных явленностей, – это, пожалуй, различие в "ясности".