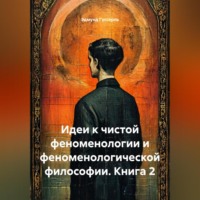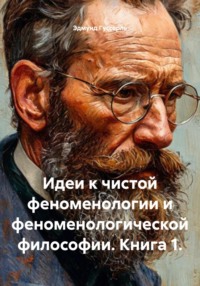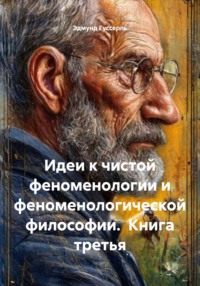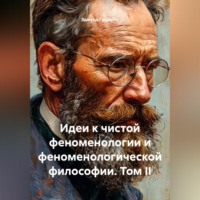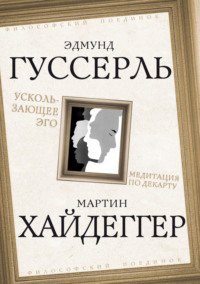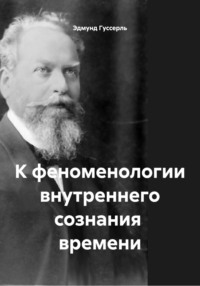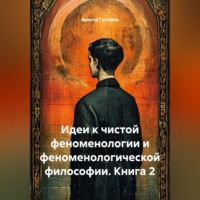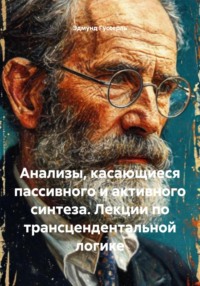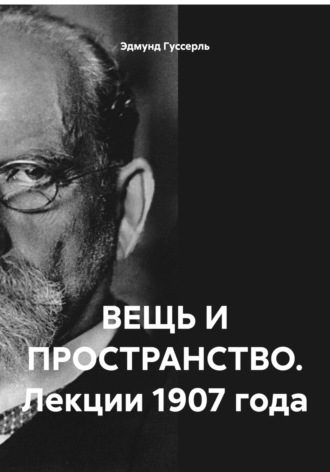
Полная версия
ВЕЩЬ И ПРОСТРАНСТВО. Лекции 1907 года
Нам нужно отметить, что здесь всё еще не идет речи о действительности или недействительности, существовании или не-существовании репрезентируемого; в вопросе стоит лишь простое «интенциональное отношение» к объекту, которое приписывается представлению независимо от того, говорит ли относящееся к нему экзистенциальное суждение с так называемым оправданием: объект существует (или не существует).
То, что мы прояснили⁹, есть, таким образом, «интендирование или репрезентирование именно этого или того объекта» как нечто присущее самому соответствующему представлению, как имманентная детерминация «сознания». Повсюду сводится к одному и тому же сказать, какое «сознание», то есть какое представление в самом широком смысле, и какой объект может встать в вопрос. Так это обстоит, например, даже когда мы интуируем, репрезентируем или интендируем каким бы то ни было образом тождество или нетождество, быть квалифицированным так-то и так-то или не быть таковым и т.д. Теперь тоже, при исключении вопроса существования (т.е. здесь вопроса о том, существует ли тождество в истине, существует ли положение дел актуально), возможна очевидность, что релевантная интенция интендирует именно тождество, такую-то качественность и т.д., хотя это не дано и не может быть дано реально [reell] в ней; и эта очевидность должна быть прояснена согласно тому же типу, который мы ранее очертили.
Пойдем дальше и возьмем очевидность того, что объект внешнего восприятия не содержится реально [reell] в восприятии. Это естественно вновь влечет проблему о том, как это восприятие возможно, то есть в чем собственно состоит его так называемая возможность, и это всегда отсылает к его имманентной сущности.
Это приводит нас теперь обратно к тому факту, что имманентное восприятие, которое выводится в самополагание для нас восприятием, например, дома, по своей самой сущности не совместимо с восприятием самого дома в единстве сознания тождества и также не совместимо в таком единстве с восприниманием, которое выводит в восприятие любую одну часть дома. Вместо того чтобы говорить, что самополагание восприятия несовместимо, в единстве сознания тождества, с самим восприятием, мы могли бы, конечно, также сказать, что они совместимы в сознании различия или что они «сообразны» [«fit»] в нем. Все это, однако, должно быть понято в смысле, проясненном ранее, то есть как относящееся к сущности. Те же совместимости и несовместимости сущности существуют тогда, как дальнейшее следствие, в каждом представлении, которое находит свое исполнение в восприятии дома или которое может вступить с ним в единство идентификации. Скрытое здесь на заднем плане есть, конечно, аксиома, что если А тождественно В, и В тождественно С, то А тождественно С; и объяснение этой аксиомы здесь под рукой. Если мы возвратимся к синоптической связи сознания тождества АВ с сознанием тождества ВС, тогда мы находим заключенную в сущности этой связи, как возможность, сознание тождества АС; то есть мы находим несовместимость этой связи с сознанием различия АС.
Точность прояснений относительно фундаментальных обстоятельств для всех анализов объектов, обстоятельств, принадлежащих сознанию идентификации и сознанию дифференциации, потребовала бы, признаемся, гораздо большего. Первое, что следует отметить, это то, что тотальная идентификация, которой мы отдали предпочтение, не является единственно существующей. Так, мы только что говорили о несовместимости самополагания восприятия с восприятием части дома, с одним из его собственных моментов вообще. Здесь мы уже использовали частичную идентификацию или частичную дифференциацию. Они также стоят в вопросе, когда мы рассматриваем возможности очевидности, возникающие в каждом данном случае из «сравнения» реального [reell] содержания восприятия с содержанием объекта. «Содержание» означает части и моменты восприятия или части и моменты объекта.
§ 12. Отношение части и целого в презентативном восприятии. Частичная и тотальная идентификация.
Данные части даны в частичной идентификации. Они могут быть даны, возможно, абсолютно, например, в самополагающей идентификации, так сказать, если мы осуществляем имманентный анализ. Одно самополагание дает целое как абсолютное бытие; другое самополагание выдвигает на передний план часть; но часть впервые становится частью целого в частичной идентификации, которая приводит один и другой объект к частичному совпадению, тем самым приводит их к совпадению способом, который мы обозначаем словами часть и целое. Различие слов уже означает, что в этом сознании тождества соединенные представления не совместимы, в отличие от случая тотальной идентификации, которая состоит в единообразном сознании «то же самое».
Более того, тотальная идентификация, сознание-единства объективного совпадения в более строгом смысле, есть основная форма сознания, в которой смысл выражения «один и тот же объект» демонстрируется изначально. Подобным образом частичная идентификация также есть основная форма сознания. Последняя есть сознание совпадения, но таким образом, что «излишек» [«surplus»] несовпадения выделяется. (Возможность выделения обоснована очевидным образом в сущности положения дел.) И в этой основной структуре объективирующего сознания возникает смысл речи о части и целом и о содержании и содержащемся, обладании и обладаемом.
Частичная идентификация дифференцируется; в своей универсальности она охватывает, согласно своей идеальной возможности, различные случаи, соответствующие базовым различиям в типе парциальных отношений. Часть в более строгом смысле есть та, которая как раз дополняет себя с координатными частями, чтобы сформировать целое, благодаря чему целое «составляется» из частей; члены целого, куски, являются частями в этом прегнантном и более строгом смысле. С другой стороны, внутренние черты, которые целое имеет как субъект, как носитель, и имеет в модусе определения, в модусе предиката, суть свойства.
Очевидно, здесь следует различать различные модусы идентификации, тесно родственные и потому подводимые нами под один заголовок «частичная идентификация», но все же они должны считаться собственными модусами. Свойства не составляют объект, как куски составляют целое, и тем более они не суть качества в более широком смысле, внешние черты, которые выпадают на долю субъекта, которые он имеет, но которые не принадлежат ему чисто. Поскольку они выпадают на его долю в отношении к чему-то еще, то есть лишь в сознании-единстве, которое «охватывает» еще один Объект, они могут быть даны как принадлежащие субъекту.
Тщательное родство сущности пребывает в «есть», в сознании-единстве, которое является мерилом повсюду: повсюду единство объекта, единство как абсолютное тождество, единство как единство целого и члена, или куска, целого. Единство субъекта и свойства, субъекта и относительного определения.
Идея этого сознания единства, или соединяющего сознания объекта, включает в себя еще различные события, такие как соединение, возможно, единство двух частей целого, совместимость и несовместимость элементов, которые должны сойтись в целое, совместимость или несовместимость свойств и отношений, которые должны выпасть на долю субъекта. Кроме того, она включает аподиктические формы, стоящие в сущностном отношении к «есть» и «не есть», то есть аподиктические формы «и», «или», множественного числа, «одного» вообще, и единичного «одного» и т.д. Конечно, мне нет нужды исследовать всё это здесь подробнее.
Главный пункт здесь состоит в том, что для изучения вещей как объектов – и, как мы сейчас увидим, для изучения объектов вообще – мы отсылаемся уже в самом начале к изучению единства дающих актов, к идентификации, различению и их различным дифференциациям и сопринадлежащим формациям, которые выражают себя в априорных формах возможных утверждений, в их чисто грамматических категориях.
Если вопрос значимости уже вошел в наше поле зрения, тогда мы говорили бы не только о чисто грамматических формах, но о чисто логических законах. Прояснение логического и уразумение возможности объективной значимости познания суть одно и то же. Поскольку мы желаем иметь дело лишь с конституцией вещей как объектов внутри восприятия, удовлетворимся несколькими дальнейшими (по меньшей мере предварительными) шагами в анализе аподиктического, такие, какие мы осуществили сегодня.
Верно, если бы мы хотели приобрести полное прояснение возможности очевидных утверждений в нашей сфере интересов, тогда нам пришлось бы предпринять общий анализ сущности слова и его значений, различия между пустыми и исполненными интенциями значения, и общий анализ смысла тотальности форм, принадлежащих аподиктическому, равно как и общей возможности их объективности, их объективной значимости, поскольку они независимы от партикулярности лежащих в основании прямых объективаций. Начало и главные части такого анализа можно найти в моих «Логических исследованиях».
То, что мы делаем здесь, – это изучение данности вещей в сфере интуиции, и более специфически в восприятии, чтобы мы могли привести эту данность к самополаганию. Наши утверждения хотят выражать чисто то, что здесь приходит к самополаганию. Мы принимаем сущность этого выражения как знакомую и ясную, чтобы не пришлось вступать в обширные исследования, направленные в другие стороны. Мы посвящаем себя, таким образом, лишь идентификациям и различениям, принадлежащим данности самих вещей как объектов, и нас сейчас не заботят те, что принадлежат утверждениям, в которых они выражены.
Сознание единства идентификации есть репрезентирующее, объективирующее сознание и имеет, как и всякое такое сознание, различные модусы, которые указываются противоположностью между «подразумеваемым» и «данным». Сущность такого сознания включает отношение к чему-то объективному и приведение объективности к абсолютной данности в особых формациях. Объективность есть, как мы уже сказали, тождество или положение дел, отношение целого и части, субъекта и определения.
Сознание тождества, как и другие объективирующие акты, может теперь быть пустой или полной интенцией; можно интендировать тождество, например, в чисто символическом мышлении, без того чтобы «подлинно» иметь его перед глазами, без осуществления подлинного отождествления. Затем, подлинное отождествление имеет различные ступени подлинности. Подлинное отождествление может быть осуществлено на основе пустых интенций членов конъюнкции, или оно может быть совершено на основе полных интенций, то есть из интуиций объективностей, положенных в отношении единства. Сам синтетический акт приобретает тогда характер интуиции. Опять же, к этому акту, как и к другим интуициям, принадлежит различение между адекватной и неадекватной интуицией, и тем самым мы имеем здесь также различие между воспринимающим сознанием, полагающим и интуирующим тождество как существующее, и воспринимающим сознанием, обладающим очевидностью, абсолютно самоданным сознанием, в котором приходит к свету абсолютная самоданность тождества. Очевидно, где не присутствует абсолютная самоданность, мы также должны различать различные модусы полагания от простого представления, и более специфически, от простого восприятия. Вера в бытие тождества, неверие, сомнение и так далее. Я думаю, могу выразить положение: где два абсолютно самоданных акта соединены посредством подлинного сознания тождества, там последнее необходимо есть самоданое сознание.
В феноменологическом анализе мы синтезируем (например, в самополагании) имманентное целое и его реальные [reell] части. Такие синтезы интуируют парциальное отношение абсолютных данностей, и эта интуиция также является абсолютно дающей. Очевидность того, что совпадение существует, что одно есть в другом, есть очевидность столь же абсолютная, как и очевидность соединенных членов. То, что я сказал о сознании тождества, конечно, справедливо и для сознания различия.
§13. Отклонение недоразумения: расчлененность дающего сознания – не расчлененность объекта.
Далее, важно раз и навсегда уяснить следующее: если мы обнаруживаем в очевидном частичном отождествлении часть в целом и, соответственно, с абсолютным основанием приписываем часть целому, разрешая таким образом целое в комплекс его частей и анализируя его, то мы не должны смешивать то, что относится к сознанию, конституирующему данность, и то, что относится к самому объекту. Следовательно, мы не должны привносить в объект поток, изменчивость и расчлененность дающего сознания. Это было бы подобно рассуждению: часть находится в целом, но феноменологически часть пребывает в целом до анализа иначе, чем после анализа. Целое расчленяется; в акте расчленения, в акте, который, так сказать, выделяет нечто само по себе и усматривает его отдельно, часть впервые становится объектом. До этого часть, предполагается, была «содержится» в целом, и мы говорим так, как если бы она уже и прежде содержалась в нем точно так же, как и потом, после отдельного усмотрения или выделения. Но разве феномен не изменился существенно? Разве не присутствует нечто совершенно иное, когда происходит выделение и частичное отождествление? Тогда как же я могу с каким-либо действительным основанием утверждать, что то же самое, что анализ впоследствии предоставляет как нечто самостоятельное, уже «содержалось» в целом до анализа? Анализ модифицирует, он вносит субъективный момент, момент искажающий; у нас нет целого феномена, который содержит феномен-часть, но вместо этого у нас есть, с одной стороны, так называемый тотальный феномен, который мы называем до анализа целым, а после – нечто совершенно иное, которое мы не имеем права помещать в тотальный феномен или помещать в него то, что оно содержит под титулом выделенной части-феномена.
Но всё это в корне ложные, праздные разговоры. Они сводятся к абсурдному скептицизму, который сам себя аннулирует, поскольку предполагает то, что отрицает. В самом деле, если бы то, что он утверждает, могло быть истинным, то эта истина должна была бы демонстрировать себя в самоусматривающем рассмотрении и анализе самих феноменов. Разве мы не анализируем процесс анализа, когда называем его первым шагом тотальное восприятие в начале анализа и затем переходим к речи о выделении части как содержащейся в отождествлении части внутри целого? Какую легитимность имеют самонадеянные утверждения, те, что различают части в тотальном сознании данности, если in thesi их объективная легитимность отнимается у всех подобных утверждений, а именно тезисом о том, что процесс выделения части и познания части включает в себя фальсификацию? Отбросим теперь это противоречие и рассмотрим дело непосредственно. В самоусматривающем отождествлении восприятие целого и восприятие части вводятся в синтез. Этот синтез есть абсолютная очевидность, это абсолютно дающее сознание того, что целое имеет часть. Если бы мы спросили, что отличает часть до анализа и часть после анализа, ответ, естественно, был бы: ничто.
Конечно, происходит многое, но это происходит со стороны конституирующего сознания, чьей сущности присуще протекать так-то и так-то, расчленяться тем или иным образом. И как целое такого характера и протекающее таким образом, оно есть очевидность того, что целое имеет часть. Это очевидность; так оно и есть, и утверждение говорит чисто и просто: целое имеет часть. Оно не говорит: целое имеет часть только после анализа или имеет ее до анализа иначе, чем после. Напротив, всё это чистая бессмыслица. Если самоусмотрение делает объектом проблематичное сознание очевидности, и если в самоусмотрении осуществляется сравнение моментов этого сознания и данного в нем объекта, части или целого этой части, то мы видим перед собой бессмыслицу, очевидное противоречие. Поток и расчлененность абсолютно дающего сознания – это не поток и не расчлененность данного объекта. Скептические аргументы указанного рода смешивают сознание и объект. «Феномен» изменяется. Сознание данности целого, с которого я начинаю, не остается неизменным, и сознание части, которое находит свое совпадение в частичном отождествлении, в сознании-целого, которое, конечно, определенным образом изменено, само по себе не является куском исходного сознания, равно как и куском измененного. Но это как раз и есть облик того, что мы называем телесным наличным бытием объективности, которая здесь приходит к данности: «целое имеет часть». И если самоусматривающая интуиция делает это сознание данности своим объектом, и причем снова своим абсолютно данным объектом, и если она различает в нем изменения, части, моменты, то этому различению снова принадлежит та или иная совершенно иначе протекающая серия отдельных шагов отделения, выделения и частичного отождествления. И снова очевидно, что сущность протекания такого типа есть как раз то, что конституирует данность и абсолютную данность объективности и ее частей, которую мы называем первичным сознанием очевидности.
Концепция, против которой мы боремся, действует, очевидно, так, как если бы объективность, бытие всякого рода, было чем-то в себе, без отношения к сознанию, как если бы сознание однажды случайно приблизилось к объекту, оперировало им и предпринимало те или иные изменения, именно в модусе операции в естественном смысле. На заднем плане скрывается предполагаемая самоочевидность: вещи суть в себе и до всякого мышления, и вот приходит Я-субъект, новая вещь, которая воздействует на вещь и производит с ней нечто, осуществляет с ней акты мышления, усмотрения, отношения и связи, благодаря чему вещь дается Я-субъекту именно лишь в навязанной ей форме.
Всё это рассыпается в прах, как только осуществляется феноменологическая редукция и естественная установка духа вместе с ее «самоочевидностями» выключается. Всякая речь об объекте и объективном бытии есть феномен и имеет свой смысл; она отсылает (как учит каждый шаг феноменологического анализа) к дальнейшим связностям того рода, которые обозначаются словом «сознание» и которые в самоусмотрении приходят к абсолютной данности. В конечном счете, однако, она отсылает к абсолютному феномену соответствующей данности, который имеет свою сущностную конституцию: а именно, быть в нем именно сознанием чего-то телесно наличного и сознанием данности. Так в этих связностях демонстрирует себя весь смысл речи об объекте и объективном существовании, равно как и смысл речи о познающем субъекте, мыслящем Я и т.д., которые ведь суть опять же объективности. Объективность – это слово заставляет здесь думать о вещной объективности, вещах, свойствах, вещных положениях дел и т.д.
В более широком смысле, однако, и сознание, т.е. всё, включаемое в этот титул, а именно восприятие, усмотрение вообще, суждение и т.д., есть нечто объективное и подчиняется тому же закону, который предписывает смысл объективности. Но это «нечто объективное» обладает привилегией, которая оправдывает наше противопоставление, фундаментальным образом, сознания и объекта в узком смысле, а именно постольку, поскольку вся трансцендентная объективность имеет свой первоначальный грунт и своего носителя в объективности в широком смысле, которую мы называем сознанием. Вещь конституируется в сознании; существует интенциональность, которая придает смысл ей и ее «истинному бытию». Эта интенциональность есть та, что раскрывается, согласно сущностным законам, в связностях сознания определенного рода, или же та, что по сущности принадлежит вещи. В силу самого своего смысла эта интенциональность неотделима от таких связностей. Само же сознание есть абсолютное бытие и по этой самой причине не является вещным бытием. Чистое и простое самоусмотрение приносит это сознание к данности как абсолютное; оно есть то, что дано в чистой интуиции. Оно есть нечто идентифицируемое и потому также объект, но оно не конституируется впервые в связностях сознания и в смысле, связующем эти связности. Оно просто и усматривается. Мир, так сказать, несется сознанием, но само сознание не нуждается в носителе. Интендирование может снова интендироваться, но оно не есть и не конституируется впервые в связностях интендирования. Эти связности суть то, что они суть, лишь в дальнейших связностях интендирования, и так до бесконечности. Вещь же есть то, что она есть, лишь в силу связностей интенции, чьи виды и формы еще предстоит исследовать.
Значит ли тогда, что вещь есть лишь связность моих психических актов, связность моих представлений, восприятий, суждений и т.д.? Кто ставит этот вопрос, конечно, ничего не понял. Феноменологическая редукция ни в коем случае не есть солипсистическая редукция, и само Я есть ведь нечто вещное, которое конституируется лишь в интенциональных связностях и их сущностных формах, и лишь тем самым оно демонстрирует себя. Обоснованность отношения образований сознания к Я, к той или иной личности, должна быть укоренена лишь в объективирующем мышлении и его логике; и эта обоснованность демонстрирует свой смысл в феноменологическом анализе. Но мышление, о котором идет речь в этом анализе, не принадлежит никому. Дело не в том, что мы лишь абстрагируемся от Я, как если бы Я действительно стояло тут и просто не упоминалось, но вместо этого мы полностью исключаем полагание трансцендентного Я и придерживаемся абсолютного, сознания в чистом смысле.
Глава 3. Элементы перцептивной корреляции.
§ 14. Содержания ощущения и качества вещей.
Рассмотрим какое-нибудь внешнее восприятие, например, восприятие дома, и возьмем специально восприятия, которые не содержат никакого изменения. Мы рассмотрим некоторый неизменный объект и извлечем один момент, удерживая сущность как тождественную. Если мы сравним содержание внешнего восприятия с содержанием его объекта, то отделяются друг от друга: ощущенный цвет – воспринятый цвет (т.е. цвет воспринятого дома), ощущенная шероховатость – шероховатость объекта, ощущенная протяженность, ощущенный структурный момент, ощущенный момент формы – воспринятая пространственная протяженность, воспринятый пространственный размер и структура. Последние наполнены и покрыты так-то и так-то «чувственными качествами» объекта; т.е. разделены и распределены тем или иным образом. Ощущенное красное есть реальный [reell] момент самого восприятия. Восприятие содержит момент красного, но само оно не красно; красное не есть «свойство» или признак восприятия, но признак воспринятой вещи. Восприятие, по очевидности, не может быть названо вещью. Равным образом восприятие содержит момент протяженности; но было бы фундаментальным извращением утверждать, что оно протяженно, поскольку это слово по самому своему смыслу применимо лишь к вещам: оно обозначает определенную пространственную модификацию. Пространство есть необходимая форма вещей и не есть форма переживания, специально не «чувственных» переживаний. «Форма созерцания» есть фундаментально ложное выражение и подразумевает, даже у Канта, фатально ошибочную позицию. Очевидно с самого начала, что ощущение и восприятие не есть одно и то же, что следует проводить различие между тотальным ощущенным содержанием и воспринятым объектом, между индивидуальными содержаниями ощущения и актуальными признаками, «соответствующими им». Если воспринятый объект, например дом в восприятии, реально [reell] трансцендентен, то трансцендентны также и все части и признаки, конституирующие дом. Если дом не существует, то не существуют и все его особенности; и если дом не есть кусок восприятия, то не являются таковыми и никакие из его признаков. Тем не менее, каждому ощущенному содержанию соответствует момент воспринятого объекта, и отношение столь тесно, что мы употребляем одни и те же термины для обозначения обеих сторон: ощущенный цвет – окрашенность Объекта, ощущенный звук – звук Объекта, ощущенный структурный момент – структура вещи и т.д.
Тем не менее, мы можем легко показать с очевидностью, что здесь речь идет не об одном и том же, что просто названо дважды, как если бы некоторый совершенно тождественный комплекс содержаний был бы, с одной стороны, при трансцендентном схватывании – вещью, и был бы, с другой стороны, при имманентном ощущении – именно комплексом ощущений. Имманентное восприятию не тождественно тому, что полагается трансцендентно как вещь. Если бы они были совершенно тождественны, то у нас было бы две вещи, одна имманентная и одна трансцендентная. Не было бы основания отказывать имманентному в преимущественном имени «вещь». Наши последующие анализы покажут, что это ведет к бессмыслице; станет явным, что вещь не есть данность, которая может быть дана имманентно в прямом восприятии. И то, что справедливо для вещи, справедливо для частей, свойств и качеств вещи. Здесь будет достаточно указать, что существует по меньшей мере возможность, как мы проясним на примерах, что многие восприятия, сущностно различные в своем комплексе ощущений, суть и могут быть восприятиями одного и того же объекта, например, дома. При этом объект может браться как определенный совершенно одинаково и как неизменный. Остается рассмотреть позднее, не принадлежит ли эта возможность к сущности вещности, т.е. не является ли она необходимой возможностью.
Подобные примеры показывают, что каждое из различных восприятий действительно есть восприятие одного и того же объекта, но каждое представляет объект лишь с одной «стороны», и каждое представляет его с «другой стороны». Тогда как одно восприятие представляет объект с этой стороны и приводит к собственному представлению на этой стороне те или иные определенные группы признаков, другое восприятие вводит в перцептивное поле вместо них другую группу признаков, поскольку оно отказывает другой группе признаков в привилегии собственной данности. И снова очевидно, что соответствующий имманентный комплекс ощущений имеет особое отношение к комплексу признаков, представляющихся собственно и телесно. Если я вижу дом спереди, то ощущенному цвету соответствует окрашенность фасада как целого и по всем его частичным моментам; и, обратно, каждому моменту ощущения соответствует качество объекта, как представленное на «собственно» воспринятой передней стороне. Однако из следующего мы видим, что даже при этом ограничении тождество не должно и не может возникнуть: если мы имеем восприятие равномерно желтой сферы (один из примеров Локка) и специально если мы имеем восприятие, неизменное на всем своем протяжении, неизменного объекта, то мы говорим, с одной стороны: видимая окрашенность, естественно относящаяся к «собственно» являющейся передней стороне, равномерна.