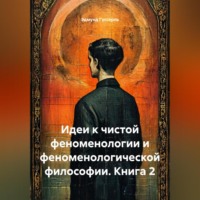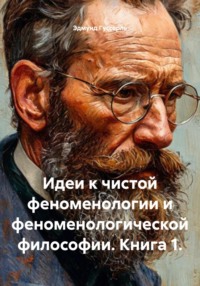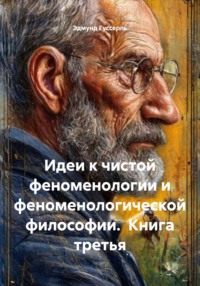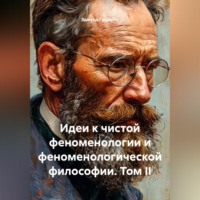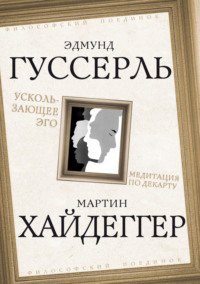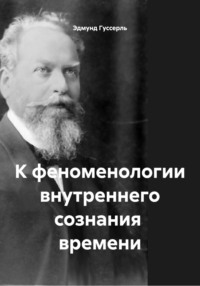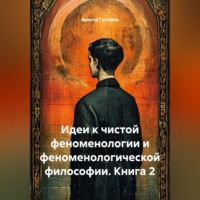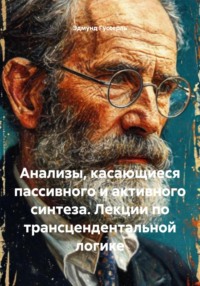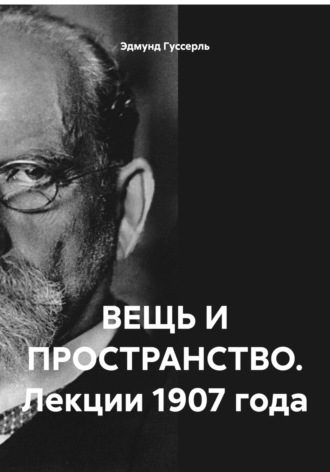
Полная версия
ВЕЩЬ И ПРОСТРАНСТВО. Лекции 1907 года
§17. Сущностная принадлежность определенных родов чувственных данных к объективным определениям.
В основе своей, следовательно, отношение сходства означает не что иное, как то, что определенные типы физических данных связаны по своей сущности с соответствующими типами объективных определений: физический данный тип "звук" не может презентировать объективную черту типа "цвет", физический данный "цвет" не может презентировать объективную черту типа "теплота" и т.д. Принадлежащие друг другу типы, которые по существу вместе в презентационной функции, называются одним и тем же именем. Последующие анализы покажут, почему я выражаюсь таким образом и что это не просто схоластическое крючкотворство.
Что же касается, с другой стороны, несобственного феномена, того, который наполняет тотальный феномен восприятия, то он, таким образом, не содержит ничего от презентации. Несобственно являющиеся объективные определения со-схватываются, но они не "сенсибилизированы", не презентированы через чувственное, т.е. через материал ощущения. Очевидно, что они со-схватываются, иначе у нас вообще не было бы перед глазами никаких объектов, даже стороны, так как она действительно может быть стороной лишь через объект.
В более ранних лекциях я выражался следующим образом: несобственно являющееся репрезентируется данными ощущениями не прямо, а косвенно, не через сходство, а через смежность (Kontiguität), не интуитивно, а символически. Этот способ выражения имеет определенное основание в синтезе связи восприятия, в котором сущность перцептивной апперцепции определенным образом раскрывает или развертывает себя далее. Тем не менее, я теперь имею более чем сомнения относительно этого способа выражения, поскольку ничто от презентации, даже той, которую можно было бы назвать опосредованной, не прилипает к содержаниям ощущения, даже если мы имеем в виду синтетическую связь. Отсылки туда и сюда, которые помогают конституировать объективную данность в протекании множества принадлежащих восприятий, касаются не только ощущений, но тотальности феноменов в едином сознании.
§18. Способ данности несобственно являющихся определений.
Как же тогда нам понять репрезентацию несобственно являющихся определений? Здесь я должен с самого начала отвергнуть воззрение (возможное лишь до тех пор, пока еще не было строгого феноменологического анализа), что несобственно являющееся просто не являлось бы в перцептивном смысле, но, напротив, являлось бы, дескать, в форме сопутствующей фантазии. До сих пор мы еще не провели анализа сущности феномена в фантазии, но столькó ясно с самого начала, что он близко родствен феномену в восприятии, несмотря, с другой стороны, на демонстрацию сквозной модификации по отношению к последнему. Каким бы ни был случай относительно этой модификации, даже феномен в фантазии, как наши дальнейшие рассуждения покажут точнее, приводит некоторую вещь к явлению лишь путем ее презентации и тем самым необходимо презентирует ее односторонне, точно так же, как и перцептивный феномен.
Позволительно ли тогда приписывать несобственно являющиеся моменты (например, внутренность, обратную сторону и т.д.) воспринимаемой вещи на счет фантазийных презентаций? Без сомнения, мы часто находим в связи с восприятием (что не значит: в восприятии) вещи фантазии сторон, обращенных от нас, и потому кажется очевидным для того, кто легко склонен оперировать незамеченными – или даже бессознательными – феноменами, предполагать эти фантазии в остальных случаях, то есть именно там, где их нет. Тем не менее, мы можем легко убедиться посредством следующего соображения, что это дело очень наивной феноменологически конструкции. Феномен в фантазии презентирует вещь частично собственно, в отношении ее лицевой стороны, и частично несобственно, в отношении ее обратной стороны. Как же он презентирует эту обратную сторону? Опять же через фантазию? В этом случае различие было бы совершенно упразднено. В действительности, даже в фантазии мы не можем репрезентировать дом спереди и сзади одновременно; если лицевая сторона стоит перед нашими глазами, то обратная сторона не стоит, и наоборот. Таким образом, даже здесь есть различие между собственным и несобственным феноменом, и потому здесь также есть компоненты апперцепции, которые пребывают в презентации. В случае восприятия дома, как же тогда могло бы помочь прибегнуть к фантазийным презентациям несобственно являющейся стороны? Могло бы быть сказано, что лицевая сторона дома находит перцептивную презентацию, другие стороны – имагинативную презентацию. Но тогда мы должны были бы спросить: что обеспечивает единство? Лицевая сторона отсылает к обратной стороне; обратная сторона – к лицевой. Иными словами, перцептивная презентация лицевой стороны связана с компонентами апперцепции, которые отсылают за ее пределы к обратной стороне, и имагинативная презентация связана не менее с компонентами, которые отсылают к лицевой стороне. Но это уже значит, что каждая такая имагинация есть полная фантазия, которая могла бы существовать и для себя как чистая фантазия и которая связывает презентацию с отсылающими за пределы компонентами. Равным образом, это значит, что восприятие, даже без фантазии, доставляет полную репрезентацию, а именно как презентацию лицевой стороны вместе с компонентами, отсылающими за пределы. Если теперь фактически, как это и бывает, дана одновременно с восприятием репрезентация в фантазии некоторых задних аспектов или иных, то две репрезентации, перцептивная и фантазийная, как раз "совпадают". Они вступают в синтез отождествления и, точнее, в такой, который имеет характер исполнения (Erfüllung) в отношении пустых кусков апперцепции, которые появляются с той и с другой стороны. Очевидно, это получает полное подтверждение через феноменологический анализ случаев, в которых мы видим, как выступают, а затем вновь исчезают фантазии как иллюстрации не данных сторон воспринимаемой вещи. Это нуждается в дополнении сказанным, что репродуктивные репрезентации действительно могут быть и совершенно смутными, как, например, фантазия в интервалах прерывания. Об этих смутных фантазиях верно то же, что и о ясных: они приводят нечто к презентации через смутные феномены, односторонне и т.д.
Ясный результат этих рассмотрений, следовательно, таков: несобственно являющиеся моменты объекта никоим образом не презентированы. Восприятие есть, как я это также выражаю, комплекс "полных" и "пустых" интенций (лучей апперцепции). Полные интенции или полные апперцепции суть собственно презентационные; пустые суть как раз пустые от какого-либо презентационного материала. Они реально ничего не приводят к презентации, хотя они имеют свое направление на соответствующие моменты объекта. Это, как материя или принцип, ничего не меняет в случаях презентификации (Vergegenwärtigung) в фантазии не перцептивно презентированных моментов объекта; здесь происходит как раз связывание восприятия и воображения, своеобразный синтез разделимых феноменов. Таким образом, мы не должны смешивать "пустые репрезентации" в смысле этих пустых апперцепций в восприятии и "пустые репрезентации" в смысле смутных репрезентаций. Собственно, мы не должны говорить о пустых восприятиях, а лишь о пустых компонентах апперцепции; в случае восприятий мы можем говорить лишь о "смутности" (Dunkelheit).
К только что упомянутому различию между полными и пустыми апперцепциями внутри восприятия мы теперь добавляем дальнейшее различие, а именно различие между "определенными" (bestimmte) и "неопределенными" (unbestimmte) апперцепциями. Это различие пересекает первое и представляет новое различение, лежащее в совсем ином измерении, внутри способа отношения к объекту.
Если я вижу дом на солнце, когда воздух прозрачен, то цвет обращенной ко мне стороны является в своей определенности. Если я вижу дом в темноте или в тумане, то его цвет является более или менее неопределенно. Сообразно обстоятельствам, сложная телесная форма является определенным образом: она аппрезентирована ясно, или, быть может, аппрезентирована неполно и оставляет желать многого в отношении своей определенности. Эти различия не следует понимать здесь в том смысле, что они есть дело концептуальной классификации; напротив, они есть дело собственного и сущностного характера восприятия и, точнее, самой апперцепции. Этот характер демонстрирует свое значение впоследствии даже в отношении отождествлений, исполнений и разочарований, ибо возможности отождествления и различения получают сущностное ограничение и ориентацию через апперцепционные модусы определенности и неопределенности в их различных функциях. Различия между определенностью и неопределенностью, в их мириадах градаций, играют особенно заметную роль в отношении моментов несобственного феномена. Если я аппрезентирую ящик, он с самого начала имеет для апперцепции обратную сторону и внутренность, хотя по большей части они весьма неопределенны. Например, остается открытым вопрос, полон ли ящик или пуст, отполирована ли задняя часть или нет, и т.д. С другой стороны, пустые интенции могут быть и определенными, как это имеет место, когда я имею дело с объектом, точно известным мне в соответствующем аспекте. Неопределенность есть имманентный характер апперцепции, и мы должны хорошо отметить, что он вовсе не идентичен повсюду и, как бы, монохроматичен, но вместо этого имеет много оттенков и степеней. Неопределенность никогда не бывает абсолютной или полной. Полная неопределенность есть бессмыслица; неопределенность всегда ограничена так или иначе. Я могу не знать точно, какую именно форму имеет обратная сторона, но она именно имеет "какую-то" форму; тело есть тело. Я могу не знать, как обстоит дело с цветом, шероховатостью или гладкостью, теплотой или холодностью, но к самому смыслу апперцепции вещи принадлежит, что вещь обладает "определенным" цветом, "определенной" поверхностной определенностью и т.д. Когда я бросаю взгляд на вещь, она стоит там как вещь; апперцепция дает ей, осмысленным образом, форму, цвет и т.д., и делает это не только в отношении лицевой стороны, но и в отношении невидимой стороны. Однако это лишь "какой-то" цвет, "какая-то" форма и т.д. То есть они не "определенно" пределинеаны в апперцепции; в отношении тех моментов, которые входят в определенные общие сферы, апперцепция имеет характер "неопределенности". Это подразумевает одновременно, что "определимость" (Bestimmbarkeit) принадлежит сущности этой неопределенности, и причем это есть определимость в рамках строго ограниченной общей области, такой как пространственная фигура, окраска и тому подобное. Определимость относится здесь не к возможности употреблять в отношении данного феномена общих терминов "пространственная фигура", "окраска" и т.д.; таким образом, она не означает осуществления соответствующих предикативных синтезов. Она также не относится к возможности особой концептуальной определенности через более точное указание особого рода фигуры или цвета, что придает объекту более точную определенность. Вместо этого, определимость здесь есть та, которая является предпосылкой для предикаций, определяющих объект и выражающих его точно. Это есть определимость в форме перцептивных феноменов, которые вместо неопределенных интенций содержат определенные таким образом, что в переходе от первого феномена ко второму, последний стоит там как определяющий. Например, пусть обратная сторона неопределенна в отношении цвета. Я переворачиваю объект; он стоит там как тот же самый, но теперь определенный в отношении цвета. Определенная апперцепция цвета совпадает единогласно с неопределенной, объект которой тем самым получает определенность.
Мы видим, что более точное определение принадлежит, как и исполнение пустых интенций и продолжающееся подтверждение уже полных интенций, сфере синтетических перцептивных связей, к рассмотрению которых мы теперь обратимся. То, что восприятие содержит имманентных моментов или компонентных кусков, достается нам в познании на основе непосредственных очевидностей. Эти, однако, отсылают назад к связям тотального и частичного отождествления, которые мы подробно обсуждали ранее. Соответственно, наш анализ фактически движется постоянно внутри связей, которые приводят восприятие к совпадению (или контрасту) с восприятием. Тем самым выступают те или иные своеобразные моменты, принадлежащие сущности восприятия и обосновывающие соответствующие модусы единства и различия.
Примечания переводчика:
1. Apprehension переводится преимущественно как апперцепция (термин Канта-Гуссерля для активного схватывания содержания сознанием), иногда как схватывание.
2. Presentation / Presentational Function – Презентация / Презентационная функция (фундаментальный термин Гуссерля для непосредственного чувственного "предъявления" объекта сознанию).
3. Physical Content / Data (physischer Gehalt / Daten) – Телесное содержание / Данные (имманентные, реально [reell] присущие акту сознания чувственные данные – цвета, звуки, тактильные ощущения и т.д., в отличие от самого трансцендентного объекта).
4. Intention – Интенция (направленность сознания на предмет; "луч апперцепции").
5. Proper/Improper Appearance – Собственный/Несобственный феномен (явление стороны объекта, непосредственно презентируемой чувственными данными / явление остального объекта, не презентируемого напрямую, но со-схватываемого).
6. Perception (Wahrnehmung) – Восприятие.
7. Given in the flesh (leibhaftig gegeben) – Данный во плоти (непосредственно, телесно присутствующий в восприятии).
8. Relief (in Relief) – Выступающий (феномен) (подчеркивает аспект "выступания на передний план" определенных сторон объекта в восприятии).
9. Full and Empty Intentions – Полные и пустые интенции (интенции, обладающие презентационным содержанием / интенции, лишенные его, но направленные на объект).
10. Determinate/Indeterminate Apprehension – Определенная/Неопределенная апперцепция (схватывание с большей или меньшей степенью отчетливости и определенности).
11. Bestimmbarkeit – Определимость (потенциальная возможность уточнения неопределенного в дальнейшем опыте).
12. Synthesis of Identification/Fulfillment – Синтез отождествления/Исполнения (ключевые синтетические акты сознания, связывающие интенции и наполняющие их содержанием).
13. Reell – Реально (в значении "имманентно присущий акту сознания", в отличие от реального существования объекта в мире).
14. Cum grano salis – С оговоркой (букв. "с крупицей соли").
Аналитический обзор раздел 2.Глава 2. Методологическая возможность анализа восприятия.
§8. Абсолютная данность восприятия в феноменологической рефлексии. Расширение понятия восприятия.
Гуссерль начинает с различения между реальной (reell) данностью (имманентной сознанию) и трансцендентной данностью (являющейся, но не имманентной). В феноменологической редукции мы исключаем суждения о внешнем мире и сосредотачиваемся на переживании как абсолютно данном феномене.
Пример: Восприятие дома не есть сам дом (трансцендентный объект), но акт восприятия дома дан нам непосредственно. Это "восприятие восприятия", или рефлексия, где переживание дано "во плоти" (leibhaftig) – не как символ или концепт, а как само явление.
Гуссерль расширяет понятие восприятия: оно не ограничивается вещами, но включает имманентные акты сознания (например, рефлексию над чувством или фантазией). В отличие от внешнего восприятия, где вера в существование объекта может колебаться, в рефлексии сомнение исключено – переживание дано абсолютно.
Трудный момент: Различие между "верой" (doxa) и "абсолютной данностью". Вера – это направленность на бытие, но в рефлексии мы уже обладаем объектом, а не стремимся к нему.
§9. Самополагающие и представляющие восприятия.
Гуссерль вводит термины:
– Самополагающее восприятие (selbststellende Wahrnehmung) – имманентное, где объект дан непосредственно (например, рефлексия над переживанием).
– Представляющее восприятие (darstellende Wahrnehmung) – трансцендентное, где объект дан через явление (например, восприятие дома).
Пример: Восприятие боли – самополагающее; восприятие дерева – представляющее.
Нераздельность восприятия и веры: В самополагающем восприятии полагание (Stellungnahme) неотделимо от самого акта – сомнение здесь невозможно.
§10. Сознание тождества и различия в представляющем восприятии.
Внешнее восприятие (например, дома) всегда односторонне – мы видим только фасад, но аппрезентируем целое. Гуссерль анализирует, как сознание связывает разные аспекты объекта через синтез тождества.
Пример: Обход дома раскрывает новые стороны, но сознание объединяет их в один объект. Однако возможна ошибка (например, оказалось, что это два разных дома).
Ключевой вывод: Тождество объекта основано не на случайных связях, а на сущностной возможности синтеза.
§11. Разрешение трудности: интенциональные компоненты восприятия.
Как возможно суждение о трансцендентном объекте, если он не дан имманентно? Гуссерль отвечает: через интенциональные связи.
Пример: Ощущение цвета ("реальное" содержание восприятия) отсылает к цвету дома (трансцендентному). Это не тождество, но функциональное отношение.
§12. Отношение части и целого.
Восприятие включает:
– Собственный феномен – непосредственно данные аспекты (фасад дома).
– Несобственный феномен – аппрезентируемые, но не данные (тыльная сторона).
Пример: Вид сферы – мы видим только сторону, но аппрезентируем целое.
§13. Отклонение недоразумения: сознание vs. объект.
Гуссерль критикует смешение расчлененности сознания (например, этапов анализа) с расчлененностью объекта. Объект един, даже если его восприятие фрагментарно.
Пример: Дом как целое не становится иным из-за того, что мы рассматриваем его по частям.
Глава 3. Элементы перцептивной корреляции.
§14. Содержания ощущения и качества вещей
Гуссерль различает:
– Ощущения (Empfindungen) – имманентные данные (например, цветовое пятно).
– Качества объекта – трансцендентные свойства (цвет дома).
Пример: Ощущение шероховатости ≠ шероховатость стены, но репрезентирует ее.
§15. Аппрегензия (Auffassung) и представляющие содержания
Ощущения – "мертвая материя", которая оживает через аппрегензию (истолкование).
Пример: Одно и то же ощущение может аппрезентироваться как манекен или человек (в зависимости от контекста).
§16–18. Односторонность восприятия и проблема "несобственного феномена"
Восприятие вещи всегда неадекватно – мы схватываем лишь часть. Неданные стороны (например, тыльная часть дома) не презентированы, но со-интендированы.
Ключевая идея: Восприятие – это единство полных (содержательных) и пустых (направленных) интенций.
Рекомендации по изучению.
1. Основные тексты Гуссерля:
– "Идеи к чистой феноменологии" (1913) – теория интенциональности.
– "Логические исследования" (1900–1901) – анализ сознания и значения.
– "Картезианские размышления" (1931) – углубление в трансцендентальную феноменологию.
2. Комментарии и исследования:
– Деррида, "Голос и феномен" – критика гуссерлевской теории знака.
– Мерло-Понти, "Феноменология восприятия" – развитие идей о телесности.
– Роман Ингарден, "Введение в феноменологию Гуссерля" – систематический разбор.
3. Связь с другими философами:
– Кант: аппрегензия vs. априорные формы.
– Брентано: различение физических и психических феноменов.
– Хайдеггер: критика "чистого сознания" в пользу бытия-в-мире.
Раздел третьий. Анализ кинетического синтеза восприятия.
Изменения восприятия и изменения явленности.
Глава 4. Конституирование временной и пространственной протяженности явленности.
§19. Временная протяженность явленности. Доэмпирическая (дофеноменальная) временность.
Мы уже провели весьма общий аналитический обзор синтезов отождествления и различения. Теперь предстоит исследовать особые синтетические события, встречающиеся нам в сфере восприятия, и особые объективации, принадлежащие сфере вещей, которые всё еще не исчерпываются наиболее универсальными терминами «тождество» и «нетождество», «целое» и «часть», «субъект» и «определение». Речь идет не только о синтезах в строгом смысле, объединяющих дискретные явленности в единство высшего уровня, но и о непрерывных единствах, уже принадлежащих имманентной сущности восприятия как индивидуального, конкретного и в себе простого и которые лишь посредством расчленения и рекомбинации впервые становятся синтезами, а именно синтезами отождествления. Именно в последнем, в том обстоятельстве, что они превращаются в синтезы отождествления, кроется причина, по которой эти непрерывные единства должны рассматриваться в связи с подлинными синтезами. Я имею в виду здесь удивительные феноменологические формы явленности, обладающие характером "протяженностей явленности": в них конституируется пространственная и временная протяженность, принадлежащая сущности вещных объектов; в них, следовательно, лежит источник всех пространственно-временных предикатов.
Наш прежний анализ выделял определенные простейшие случаи. Он относился не чисто и просто ко всем восприятиям, но был ограничен восприятиями неизменных объектов, причем сами эти восприятия, в свою очередь, брались как совершенно неизменные в себе. Это, возможно, абстрактная фикция, но она не могла поколебать очевидность наших анализов, поскольку эта очевидность сохранялась за моментами, остающимися незатронутыми возможными фактическими вариациями восприятия. Например, я смотрю на дом, не двигая телом. Дом предстоит [I] там как нечто неизменное и всегда то же самое. То, что мы здесь установили, а именно презентационные содержания, характер апперцепции, собственная и несобственная явленность и т.д., очевидно, не были бы затронуты тем, что, скажем, имели место незаметные колебания физических данных. Равным образом, не имеет значения, длится ли восприятие более или менее долгое время, или даже предстоит ли сам объект в течение большей или меньшей длительности. Однако, констатируя это, мы осознаем, что наш анализ сам по себе вовсе не был полным в очерченной нами сфере, к которой мы должны держаться. Мы проигнорировали момент временной протяженности. Если мы введем его в круг нашего рассмотрения, то признаем, что сущности каждого восприятия принадлежит некий "воспринимающий контекст": а именно, его сущности принадлежит некая протяженность. Восприятие дома длится, быть может, минуту, и эта длительность делима, например, на две полуминуты. И каждому отрезку длительности соответствует отрезок восприятия: отрезок здесь означает полностью конкретное восприятие, поскольку деление действительно осуществляется. Если возможность этого деления гарантирована с очевидностью, это подразумевает, что восприятие очевидным образом есть целое, конкретное единство (concretum), которое может быть разделено на части, а именно на восприятия, которые сами суть полные и цельные. Если мы проведем феноменологическую редукцию, то объективное время, определение как минута и полуминута, отпадает. Тем не менее, протяженность и делимость имманентно принадлежат абсолютно данному, восприятию как феноменологическому данному. Мы не должны называть эту протяженность "временной протяженностью", поскольку слово «временной» понимается в смысле объективного времени. Мы будем говорить о "дофеноменальной" или "трансцендентальной временности" в противоположность "феноменальной временности", приписываемой объектам, той, что в силу апперцепции вещей конституируется как время вещей.
В каждом восприятии вещей мы находим, таким образом, дофеноменальное целое, которое, в смысле дофеноменальной временности, вновь делимо на восприятия. Восприятие может быть фрагментировано на восприятия. Восприятие вещи, хотя и есть неразрывное единство, есть непрерывное единство отрезков восприятия, фаз восприятия, которые сами обладают характером восприятий и содержат в себе, тем самым, все моменты, различенные нами в восприятии.
Мы мыслили дофеноменальную временность как протяженность, выпадающую на долю восприятия или, точнее, воспринимающей явленности. Фактически, она единообразно касается всей явленности во всех ее ранее различенных моментах. Мы находим протяженность в физических данных, которые, как содержания ощущения, подвергаются апперцепции. В наших примерах до сих пор, а именно неизменных восприятиях, представляющих неизменную вещь, момент фигуры, покрывающий ее цвет, шероховатость и т.д., протяженно неизменно проходили через дофеноменальное время. Каждый физический данный элемент и каждая принадлежащая ему форма имеют временную протяженность и позволяют разложить эту протяженность на отрезки; каждый отрезок есть вновь цвет, форма и т.д., неизменные по содержанию, и то же самое относится к апперцепции и ко всей собственной и несобственной явленности. Фрагментация доэмпирической временной протяженности фрагментирует каждый компонент апперцепции относительно того или иного определения вещи: каждый отрезок апперцепции репрезентирует ту же самую черту, ту же самую часть вещи или, если мы возьмем апперцепцию в целом, ту же самую вещь согласно ее тождественному содержанию. Происходит лишь своеобразная экстенсия, экстенсия тотальной апперцепции, которая всецело пронизывает все ее компоненты. С другой стороны, это не есть дело произвольной экстенсии явленности вещи, экстенсии, которая была бы безразлична представляемой вещи. Ибо эта экстенсия также имеет объективирующее значение.