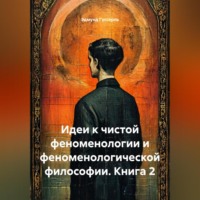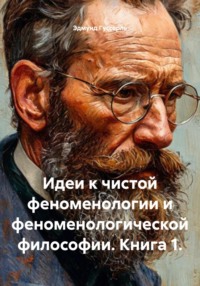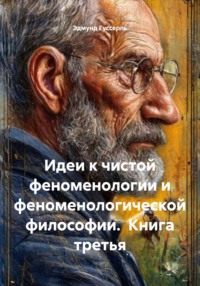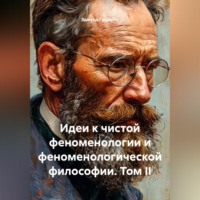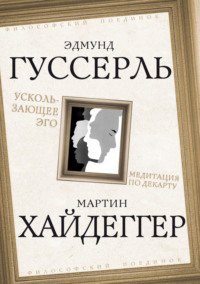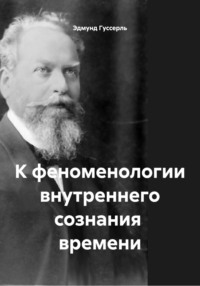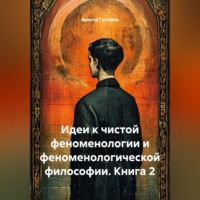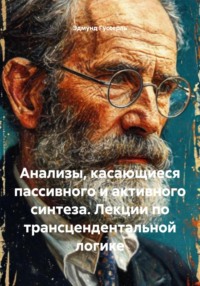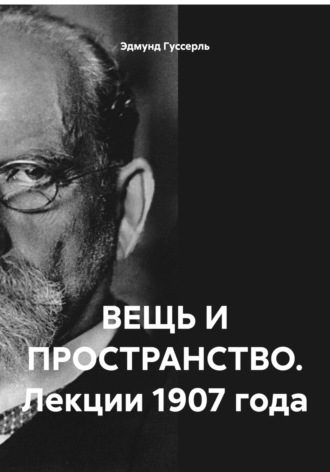
Полная версия
ВЕЩЬ И ПРОСТРАНСТВО. Лекции 1907 года
Эта рефлексия, всё ещё движущаяся целиком на естественной почве, позволяет нам заметить, что мы можем с чистой совестью и фактически согласно природе начать снизу, с низшего и общедоступного опыта, не опасаясь разыгрывать феноменологическую игру, которая была бы нерелевантна высшей проблеме конституирования научной реальности в научном познании.
Раздел первый. Основы феноменологической теории восприятия.
Глава 1. Фундаментальные определения внешнего восприятия.
§2. Ограничение поля исследования. Предварительное понятие внешнего восприятия.
Итак, мы хотим изучить само-конституирование – я мог бы также сказать: само-манифестацию – опытной объектности на низшем уровне опыта. Иными словами, мы будем иметь дело с переживаниями непосредственной интуиции или интуитивного схватывания, на которых впервые воздвигаются высшие акты специфически логической сферы и тем самым впервые осуществляют – в этом так называемом «обработке» лежащего в основе «чувственного материала» – конституирование научной объектности.
Прежде всего, мы займёмся восприятием, которое должны сначала изучить само по себе, а затем в связи со всеми близкими ему и находящимися на том же уровне объективирующими феноменами. Мы исследуем корреляцию между восприятием и воспринимаемой вещностью, и под заголовком воспринимаемой вещности с самого начала подразумевается, с одной стороны, вещь в строгом смысле физической вещи, а с другой – духовная вещь, одушевлённое существо, и далее, различение между «собственным Я» и «чужим Я». Сюда принадлежит не просто изолированная вещь, но вещь вместе со своей вещной средой, поскольку восприятие и, как дальнейшее следствие, непосредственный опыт претендуют функционировать для этой среды как конституирующий феномен. Является ли восприятие, взятое в этой корреляции, единственным феноменом, который на основе присущих ему по сущности особенностей заслуживает называться восприятием, мы, конечно, пока не знаем. Собственно и в строгом смысле, мы ещё вообще не знаем, что такое восприятие. Предварительно у нас есть слово и связанное с ним некое смутное значение. Вернуться под водительством этого смутного значения к самим феноменам, интуитивно их изучить и затем создать твёрдые понятия, которые чисто выражали бы феноменологические данные, – вот задачи. В любом случае, мы пойдём так далеко в дифференцирующем анализе, в сравнении, характеристике, различении и определении, как того требуют природа обсуждаемых предметов и преследуемые нами цели. Очевидно, сами цели не вполне ясны и будут определяться лишь по мере продвижения во феноменологии.
Мы не можем связывать себя концептуальными определениями психологов и философов. Эти определения осуществляются из интересов и точек зрения, совершенно чуждых тем, что должны направлять нас здесь. Цель чисто феноменологического анализа и принцип феноменологической редукции им чужды; недопонимания, смешения, даже грубые ошибки, которые такой анализ исключает без лишних слов, господствуют в обычных определениях с самого начала. Действительно, мы не желаем изучать обсуждаемые предметы опосредованно, на основе того, что другие говорят о них, но хотим приблизиться к ним самим и позволить им наставлять нас.
Мы будем поэтому продвигаться через примеры и вначале от специфических примеров так называемого внешнего восприятия или, выражаясь яснее, от восприятий вещей в строгом смысле, физических вещей. Видение, слышание, осязание, обоняние и вкушение – вот заголовки, представляющие перед нашими глазами примеры восприятий вещей. Мы берём эти слова из обыденной речи и, следовательно, используем их также в том смысле, какой они там имеют. «Я вижу» в каждом случае означает: я вижу нечто, а именно либо вещь, либо свойство вещи, либо вещный процесс. Я вижу дом, я вижу взлетающую птицу, я вижу падающие листья. Я вижу также цвет дома, структуру и размер листа, форму его движения и т.д. Я слышу нечто, а именно тон скрипки, крики детей на улице, жужжание пчелы. Так повсюду. Я вижу и слышу также себя самого и других людей; я вижу свои руки и слышу слова и шумы, принадлежащие мне, моему Телу [Leib]. Видение и слышание относятся в первую очередь, даже в случае восприятия других, к телесному [Körperlichen]. Конечно, в отношении психической сферы мы также говорим: я вижу, я вижу, что другой сердится, или вернее, я вижу гнев в его облике, я вижу насмешку в его взгляде, неискренность и т.д. Тем не менее, даже поверхностное рассмотрение отличит это видение от видения цвета или движения, от видения физической вещи. Можно было бы сказать, что лицо и выражение лица, игра черт, жест – "видятся", и они схватываются как выражение чего-то психического, что само по себе не видимо. В любом случае, мы сначала исключим это видение психического.
Рассмотрение примеров позволяет без лишних слов выделить некую единообразие в том, как мы говорим о восприятии, и мы замечаем при этом двойное отношение. Восприятие есть восприятие некоторого объекта, или точнее: здесь, некоторой "вещи", а с другой стороны, восприятие есть восприятие воспринимающего Я. "Я" воспринимаю, а именно то или это. Отношение к Я присуще восприятию как переживанию, и мы находим его таким же образом в каждом примере переживаний иного рода. Я фантазирую, я сужу, я умозаключаю, я чувствую; так фантазирование, суждение и т.д. есть фантазирование "Я", именно того, что фантазирует, суждение есть суждение "Я", которое судит, и т.д. В случае восприятия, которое здесь наш непосредственный интерес, этому отношению (поскольку восприятие есть переживание) к Я сопутствует также перцептивное отношение Объекта к Я-телу [Ichleib] и, далее, определённое конституирование в характере тотальности восприятия, благодаря которому я имею свою точку зрения и, относящееся к ней, определённое воспринимаемое окружение, к которому принадлежит вещь, которую я в каждом случае называю специально воспринятой, только что увиденной или услышанной. Сначала мы будем абстрагироваться от этих Я-отношений насколько возможно. Кроме того, мы не будем сразу фокусироваться на различиях между «тотальным восприятием», которое отличалось от отдельного восприятия Объекта, специально называемого воспринятым, и самим последним>. Вместо этого мы лишь примем к сведению [ad notam] эти различия и используем их для предварительного обозначения понятного ограничения, а именно ограничения "отдельными восприятиями".
Тем самым мы очертили узкий круг примеров – восприятие вещей (слово отныне всегда употребляется для физических вещей) или вещных процессов, которое делает индивидуально своим Объектом, Объектом для себя как специально воспринятый, даже если он воспринимается из фона, как, например, дом, который мы видим, в то время как в поле нашего зрения или взора имеем всеобъемлющий зрительный фон, который мы также привыкли обозначать как видимый.
§3. Сущностное познание восприятия на основе фантазируемых восприятий.
Само собой разумеется, мне нет нужды подчеркивать, что это предварительное рассмотрение уже использует феноменологическую редукцию, что оно не приписывает физическому существованию значимости в качестве существования и полностью оставляет подобные вопросы вне игры. Если мы имеем перед глазами примеры указанного рода и намереваемся изучить прежде всего случай собственно восприятия, то мы, разумеется, не вырываем это восприятие всерьез из его феноменологического контекста. Мы предоставляем себе свободу всмотреться в этот феномен и его объективирующее осуществление и изучить его сущностные особенности. Это всматривание предполагает абсолютную данность, что отнюдь не означает, что его фон и Эго, чьим феноменом оно является, суть ничто, просто потому что в рамках этого всматривания они не предстают как данные. Отдельное восприятие видится как абсолютная данность, и оно есть основание для утверждений, призванных выразить то, что чисто презентировано в нем, или то, что вообще может быть из него извлечено. Ровным счетом ничего не говорится ни о чем ином. Здесь все остается открытым, пока мы не найдем повод обратиться к релевантным новым данным и судить о них сообразно обстоятельствам.
Перейдем теперь к анализу. В качестве примера мы рассмотрим восприятие дома. Мы дадим отчет о том, что мы находим феноменологически в этом восприятии (таким образом, феноменологически, все, что нас здесь не касается, считается ничем: Эго, дом и восприятие дома как психологическое переживание). Вопрос касается сущности этого восприятия, именно так, как оно дано в сознании, которое интуирует и удерживает сущность как тождественную. Единичный факт, феноменологическая единичность «этого вот», не является целью наших констатаций, следовательно, она не есть нечто вроде феномена в том смысле, в каком он нов, если мы, как говорится, лишь имеем его данным в повторении, пусть даже в сознании тождественности данности согласно ее сущностному полному содержанию.
Мы не хотим сейчас уже затрагивать проблему феноменологической единичности и выдвигать ее на первый план. Если наша цель в каждом случае – сущностное познание, то мы должны осуществить здесь прежде всего то, которое легче всего схватывается. Возможно, тогда приобретенное не будет обладать окончательной значимостью, поскольку оно, возможно, нуждается в значительном углублении и может таить в себе непредвиденные проблемы, которые впоследствии потребуется разрешить. Но в целом такова природа феноменологии – продвигаться слой за слоем от поверхности в глубины. Напоминаю вам наше введение[1], которое дало примеры в этом отношении. Продукты первого анализа требуют новой очищающей дистилляции; новые продукты требуют того же, пока не будет достигнут окончательный, совершенно чистый и ясный.
Таким образом, мы должны начать с презентификации различных примеров восприятий, отчасти относящихся к одним и тем же вещам, отчасти к разным вещам. В этих единичных данных, которые, будучи феноменологическими, не включают никакого полагания существования – ни психологического, ни какой-либо иной трансцендентной экзистенции – и не включают никакого иного принятия позиции относительно существования, мы схватываем как абсолютно данное нечто всеобщее: всеобщую сущность восприятия вещей и присущие ей особенности. Я должен подчеркнуть здесь, что мы не предполагаем, что служащие нам примеры суть актуальные восприятия, как если бы условием феноменологического анализа было то, что схватывание сущности и сущностное обобщение должны осуществляться на основе единичных инстанций актуальных переживаний. Действительно может случиться, что мы берем наши примеры из актуальных восприятий; возможно, в начале анализа мы задержимся на восприятии этой скамьи, этой поверхности и т.д. То есть мы можем актуально воспринимать и рефлектировать над этим восприятием (осуществляя тем самым так называемое внутреннее восприятие). Мы могли бы начать таким образом. Однако само это полагание существования, которое имеет место в рефлексии, полагание как "cogitatio", как актуальное, как наличное существующее восприятие, остается вне игры. Здесь ему нечего сказать. Фантазируемые презентификации восприятий могли бы служить нам столь же хорошо, поскольку они ставят перед нашими глазами восприятия, и мы тогда действительно видим и можем схватить как данное с очевидностью то, что мы хотим схватить, а именно сущность восприятия, значение чего-то вроде «восприятия». Нас не интересует достоинство данности как актуального переживания в противоположность простой презентификации, точно так же как нас вообще не интересует конституция сознательных образований, которые составляют очевидность, осуществляемую нами шаг за шагом.
В очевидности, в сфере чистой само-данности, мы исследуем сущностные особенности восприятия. Но то, что мы исследуем, – это именно эти особенности, а не сама очевидность, та очевидность, которая здесь определяет само исследование. Исследование феноменологической конституции этих форм очевидности, естественно, принадлежит другому проблемному слою.
Я уже указывал ранее, что данности, которыми мы располагаем в примерах, суть единичные сущности. Если существование экземплярных восприятий вынесено за скобки, даже существование как "cogitatio", и если даже простые фантазируемые восприятия (где полагание существования полностью отсутствует) вполне достаточны, то данное здесь в абсолютном смысле – это не нечто существующее и все же есть сущее, а именно в каждом случае единичная сущность (это единичное восприятие здесь, существует оно или нет). Именно к этим единичным данным относятся очевидные сущностные обобщения более высокого уровня; например, мы можем извлечь из этих единичных данных всеобщую сущность «восприятие вообще», которая единично воплощается в них как та или иная.
Посмотрим теперь, что мы можем сказать с очевидностью о восприятии в первом слое анализов, т.е. в первом слое сущностных констатаций.
§4. Интенциональность как сущностная определенность восприятия.
Говорить о восприятии – значит отсылать к воспринимаемой вещи, как мы уже сказали. В сфере чистой очевидности (или чистой интуиции, или чистой данности) мы обнаруживаем, что отношение к объекту определенным образом конституирует сущностный характер восприятия. Воспринимая эту скамью или тот дом или тому подобное, или презентифицируя себе такое восприятие, я нахожу, что сказать: это восприятие есть восприятие скамьи, то восприятие есть восприятие дома и т.д. – значит выразить нечто, принадлежащее – неразрывно – к сущности рассматриваемого восприятия. Если мы поставим перед глазами, в сравнимой интуиции, другие "cogitationes", другие чистые феномены, то мы обнаружим, не позволяя им считаться восприятиями, что они все же подобны восприятиям в том, что отношение к объекту принадлежит им сущностно. Примеры: фантазируемая презентификация скамьи или дома и т.д., презентация дома посредством образа, мышление о доме и т.д. Не вдаваясь в исследование сущностных природ этих видов чистых феноменов, мы с очевидностью распознаем, что и здесь отношение к объекту, выраженное маленьким словом «о» (фантазия "о" доме и т.д.), есть нечто для них сущностное, но что, с другой стороны, здесь отношение носит иной характер, чем в первых примерах, которым мы даем имя восприятия и которыми мы, тем самым, намерены ограничить это имя. Таким образом, в первоначальном рассмотрении выделяется своеобразный характер восприятия, который мы можем выразить понятным образом следующим образом: объект стоит во восприятии как налично присутствующий во плоти ("da leibhaftig"), он стоит, чтобы говорить еще точнее, как актуально присутствующий, как само-данный в текущем теперь. В фантазии объект не стоит там как во плоти, актуальный, наличный сейчас. Он действительно стоит перед нашими глазами, но не как нечто, данное сейчас; он, возможно, мыслится как теперь, или как одновременный с текущим теперь, но это теперь – мысленное и не есть то теперь, которое принадлежит присутствию во плоти, перцептивному присутствию. Фантазируемое лишь «репрезентировано» ("vorgestellt"), оно лишь ставит перед нами ("stellt vor") или презентирует ("stellt dar"), но оно «не дает себя» как само себя, актуальное и теперь.
Подобным же образом, в образе субъект, изображаемое[3], не стоит там во плоти, но лишь как если бы он был там во плоти. Нечто данное во плоти, которое в образе приходит к данности, презентирует нечто, не данное во плоти, и делает это способом, свойственным образу.
Это первая и все еще довольно грубая характеристика. Более точное, тщательное исследование отношений этих различных форм данности, т.е. форм, в которых объекты могут стоять перед глазами, потребовало бы всесторонних и трудных исследований.
Очевидно, предыдущая характеристика не должна пониматься в том смысле, что к сущности каждого восприятия как такового принадлежало бы существование воспринимаемого Объекта, существование того, что стоит в нем в модусе наличного присутствия во плоти. В этом случае разговор о восприятии, объект которого не существует, действительно был бы бессмысленным; иллюзорные восприятия были бы немыслимы. Сущностный характер восприятия заключается в том, чтобы быть «сознанием» наличного присутствия Объекта во плоти, т.е. быть его феноменом. Воспринимать дом означает иметь сознание, иметь феномен дома, стоящего там во плоти. Как обстоит дело с так называемым существованием дома, с истинным Бытием дома и что это существование означает – обо всем этом ничего не говорится.
§5. Телесная присутственность и полагание. Перцепция и позициональность.
Суть вопроса прояснится, если мы сразу проведем различие между телесной присутственностью ("Präsenz im Fleische") и полаганием ("Stellungnahme"). Если мы возьмем слово "восприятие" ("Wahrnehmung") в обычном смысле, то обнаружим, что в наших базовых примерах момент полагания слит с моментом телесной присутственности. Перцепция ("Perzeption"), феномен дома как телесно присутствующего, есть одновременно полагание ("Glauben"), убежденность в том, что он здесь стоит. Если мы представим пример разоблаченной галлюцинации, то обнаружим вместо полагания-веры отрицающее полагание ("Unglauben", неверие). Более того, находятся и другие примеры, где мы изначально сомневаемся в восприятии: восприятие ли это или галлюцинация. Здесь отсутствуют как вера, так и неверие, вместо них мы имеем сомнение ("Zweifel") и, возможно, воздержание от всякого полагания ("Ausschaltung jeder Stellungnahme"). Однако во всех этих случаях феномен телесной присутственности ("das leibhaftig Dastehende") объекта сохраняется или может сохраняться. Если в этом рассмотрении мы осуществим очевидные феноменологические редукции, то в сущности восприятия в обычном смысле обнаружится различие между телесной присутственностью (которая фундаментальна и существенна для восприятия как такового) и полаганием (которое может наличествовать или отсутствовать). Как эти две характеристики соотносятся друг с другом и как этот вопрос связан с вопросом о смысле существования или несуществования и с вопросом о различии между обоснованным и необоснованным полаганием – все это составляет предмет новых исследований.
Чаще понятие восприятия ("Wahrnehmung") ограничивается так, что исключает собственно "принятие-за-истинное" ("Für-wahr-Nehmen") (а тем более "актуальное принятие-истины" ("Wahr-Nehmen"); иначе говоря, оно исключает характер веры ("Glauben"), характер полагания относительно телесно присутствующего. Это имеет свои преимущества и недостатки. В любом случае, для более узкого по содержанию понятия (или, наоборот, для более широкого) необходимо название, фиксирующее суть. Мы будем говорить перцепция ("Perzeption"), а затем, возможно, о перцептивной вере ("perzeptiver Glaube") (восприятие ("Wahrnehmung") в нормальном смысле), перцептивном неверии ("perzeptiver Unglaube"), сомнении ("Zweifel") и т.д. Тем не менее, там, где различия между новыми характерами, которые мы обозначаем как различия в позициональности ("Stellungnahme"), нерелевантны, и где вообще нет причины их разделять, мы по-прежнему будем говорить о восприятии ("Wahrnehmung"). Этим мы оставим открытым вопрос, идет ли в каждом конкретном случае о "чистой перцепции" или о "перцепции с полаганием", или же с другими эквивалентными феноменальными характерами. По сути, мы будем анализировать перцепции, хотя удобнее использовать привычное немецкое выражение [Wahrnehmung, "восприятие"], пока мы следим за тем, чтобы его двусмысленности не ввели нас в заблуждение.
§6. Высказывания о восприятиях и высказывания о воспринимаемых объектах. Реальные и интенциональные компоненты восприятия.
Уже то самоочевидное данное ("Evidenz"), что восприятие есть восприятие того или иного объекта, говорит нам, что восприятие и объект не одно и то же. И в самом деле, очевидно, что в любое время возможны два ряда самоочевидных высказываний: высказывания о восприятии и высказывания об объекте в том смысле, который он имеет в восприятии, и что в них восприятие и телесно являющийся в нем объект не взаимозаменяемы. Самоочевидно, что восприятие не есть вещь. Восприятие поверхности не есть поверхность; и тем не менее в восприятии является объект, и этот являющийся объект характеризуется как поверхность. Более того, эта поверхность четырехугольна и т.д., но восприятие – нет. Не вынося никаких предварительных суждений о существовании или несуществовании, можно сформулировать самоочевидные высказывания о воспринимаемом объекте (т.е. о телесно являющемся), и эти высказывания выражают, что тот или иной объект воспринимается и "как" он воспринимается: как черный, четырехугольный и т.д. С другой стороны, вновь возможны самоочевидные высказывания о восприятии как феномене и о том, что к нему относится.
Что касается восприятий и всех тех феноменов, чья сущность включает "отношение к объекту", то ныне стало модным различать содержание акта ("Aktinhalt") и объект ("Objekt"). Это различение отнюдь не является достаточно ясным, да и не является достаточным.
Со своей стороны, мы предварительно имеем повод различать явление ("Erscheinung") и являющийся объект ("erscheinender Gegenstand"), а далее – между содержанием явления (реальными ("reell") компонентами явления) и содержанием объекта. Восприятие имеет "реальное содержание" ("reeller Inhalt"), т.е., как феномен, оно содержит, как мы можем феноменологически установить с очевидностью, те или иные части и внутренние моменты, т.е. определения вообще. С другой стороны, в феноменологии мы говорим о содержании являющегося объекта ("Inhalt des erscheinenden Gegenstandes"), и делаем это в связи с самоочевидностью того, что сущность восприятия включает телесное представление ("leibhafte Darstellung") объекта и что оно представляет объект именно с этими или теми частями или признаками, а не с другими. Мы различаем одно содержание от другого, поскольку самоочевидно, что части и признаки восприятия, которое представляет этот объект телесно, не суть части и признаки самого представляемого объекта, т.е. они не суть те части и признаки, "с которыми" восприятие заставляет объект являться телесно.
То, что все эти самоочевидности существуют, несомненно; нам лишь нужно актуально осуществить их путем примеров. С другой стороны, здесь мы ощущаем неудобство. Относительно восприятия в данности чистой интуиции ясно, что мы можем высказать, что оно есть согласно своей сущности, что эта сущность реально ("reell") содержит в себе, и, соответственно, что реально ("reell") имеет и есть единично данное восприятие. Однако объект восприятия есть являющийся, "интенциональный" ("intentional") объект, и потому он дан не в том же смысле, не актуально, не полностью и не подлинно дан. Следовательно, его индивидуальная сущность не дана актуально и подлинно в эйдетическом рассмотрении. И все же мы должны образовывать самоочевидные суждения об этой сущности и находить, что реально ("reell") ее конституирует, тогда как в строгом смысле она не есть нечто, что может быть найдено. Восприятие, которое стоит перед моими глазами и к которому я применяю феноменологическую редукцию, есть абсолютная данность ("absolute Gegebenheit"); я обладаю им, так сказать, самим по себе, со всем тем, что его по сущности составляет. Оно "имманентно" ("immanent"). Интенциональный же объект как раз "трансцендентен" ("transzendent"). Действительно, последний является телесно, и существенно для восприятия представлять его телесно. Но обладаю ли я им самим актуально, данным вместе с моментами, реально ("reell") его конституирующими? Обладаю ли я актуально, например, столом в его трехмерной протяженности, которая, несомненно, принадлежит к его сущности? Обладаю ли я реально его сущностью? И все же я имею самоочевидность того, что он трехмерен в смысле этого телесного представления. Он является как трехмерный и, в остальном, как характеризованный так или иначе.
В любом случае, данность, собственная восприятию, собственная феномену, иная, нежели данность, принадлежащая "воспринимаемому как таковому" (Wahrgenommenes als solches). Таким образом, эти две самоочевидности имеют различный характер. В то же время вторая самоочевидность, очевидно, принадлежит в определенном смысле к структуре первой, поскольку говорится, что сама сущность восприятия включает представление объекта телесно, объекта, который представлен как обладающий теми или иными качествами. Поэтому требуются дальнейшие исследования. Мы пока недостаточно продвинулись, чтобы разрешить эту трудность.
§7. Предварительное указание метода дальнейшего исследования.
Если бы мы строго осуществили метод продвижения от слоя к слою, у нас был бы следующий путь:
1. Мы осуществляем феноменологическую редукцию и теперь выражаем, в ряду, самоочевидности, с которыми мы сталкиваемся относительно восприятий (и, естественно, относительно редуцированных переживаний, о которых идет речь во всех сферах феноменологического исследования). Так мы анализируем все, что относится к "сущности" ("Wesen") восприятия, все, что мы находим имманентно в нем. Тем самым мы находим имманентно
принадлежащим ему отношение к объекту, обстоятельство, что оно есть именно восприятие этого или того объекта. И мы находим самоочевидности, относящиеся к нему постольку, поскольку оно репрезентирует этот объект, и самоочевидности, касающиеся интендированного в нем объекта как такового согласно его содержанию ("Inhalt"), его собственному характеру ("eigenes Wesen"), его частям и свойствам. Затем мы находим самоочевидные возможности соотнести реальное содержание ("reeller Inhalt") восприятия с его "интенциональным содержанием" (intentionaler Inhalt), т.е. с содержанием, принадлежащим его объекту. Благодаря этому контрасту впервые отчетливо и очевидно выступают реальные моменты ("reelle Momente") восприятия, например: ощущения ("Empfindungen") в противоположность свойствам объекта, пережитое цветовое содержание ("erlebtes Farbenmoment") в противоположность цвету объекта, пережитое звуковое содержание ("erlebtes Tonmoment") в противоположность звуку объекта, ощущение шероховатости ("Rauhigkeitsempfindung") в противоположность шероховатости вещи и т.д. Тогда рельефно выделяется то, что реально ("reell") в восприятии: ощущение ("Empfindung") и характер схватывания ("Auffassungscharakter"), характер полагания ("Glaubenscharakter") и т.д.