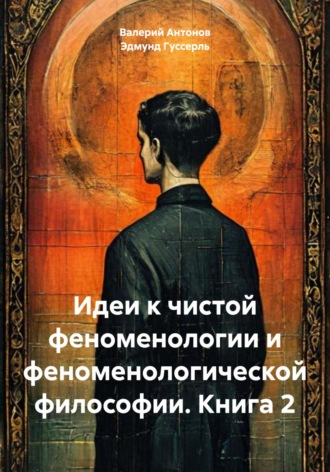
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
– У Гуссерля схема – это структура восприятия, где каузальные свойства (форма, место) вторичны по отношению к субстанциальным (упругость, твёрдость).
Важно: Гуссерль здесь переосмысляет классические понятия субстанции и материальности, связывая их не с метафизикой, а с феноменологическим опытом. Субстанциальные свойства (упругость, твёрдость) даны непосредственно, а пространственные характеристики (форма, место) – уже через каузальные схемы восприятия.
Глава третья. Эстеты в их отношении к эстетическому телу.
§ 18. Субъективно обусловленные факторы конституирования вещи; конституирование объективной материальной вещиВесь наш анализ до сих пор двигался в определённых узких рамках, границы которых мы должны теперь зафиксировать. Реальное единство, конституированное нами на различных уровнях, даже со всеми этими уровнями, ещё не достигло последнего, того уровня, на котором фактически конституируется объективная материальная вещь. То, что мы описали, – это вещь, конституированная в непрерывно-едином многообразии чувственных интуиций переживающего Эго или в многообразии «чувственных вещей» различных уровней: множественность схематических единств, реальных состояний и реальных единств на разных уровнях. Это вещь для одинокого субъекта, субъекта, мыслимого идеально изолированным, с той лишь оговоркой, что этот субъект в определённом смысле забывает о себе самом и в равной мере забыт тем, кто проводит анализ.
a) Интуитивные качества материальной вещи в их зависимости от переживающего субъекта-тела
Тем не менее, такая «самозабвенность» едва ли уместна для восстановления полной данности вещи, данности, в которой вещь проявляет свою действительную реальность. Достаточно лишь рассмотреть, как вещь проявляет себя как таковая, согласно своей сущности, чтобы признать, что такое схватывание должно изначально содержать компоненты, отсылающие к субъекту, а именно – к человеческому (или, точнее, животному) субъекту в строгом смысле.
Качества материальных вещей как эстетов, какими они предстают передо мной интуитивно, оказываются зависимыми от моих качеств, от устройства переживающего субъекта, и соотнесены с моим Телом и моей «нормальной чувственностью».
Тело – это, прежде всего, медиум всякого восприятия; оно есть орган восприятия и необходимо вовлечено во всякое восприятие. В видении глаза направлены на видимое и скользят по его краям, поверхностям и т. д. При касании рука скользит по объектам. Двигаясь, я подношу ухо ближе, чтобы услышать. Воспринимающее схватывание предполагает содержания ощущений, которые играют свою необходимую роль для конституирования схем и, следовательно, для конституирования явлений самих реальных вещей. Однако к возможности опыта относится спонтанность процессов актов представления ощущений, которые сопровождаются рядами кинестетических ощущений и зависят от них как мотивированные: с локализацией кинестетических рядов в соответствующем движущемся члене Тела связано то, что во всяком восприятии и воспринимающем обнаружении (опыте) Тело участвует как свободно движимый орган чувств, как свободно движимая совокупность органов чувств, и тем самым дано также и то, что на этом изначальном основании всё телесно-реальное в окружающем мире Эго имеет своё отношение к Телу.
Далее, очевидно, с этим связано различение, которое Тело приобретает как носитель нулевой точки ориентации, носитель «здесь» и «теперь», из которых чистое Эго интуирует пространство и весь чувственный мир. Таким образом, каждая являющаяся вещь eo ipso имеет ориентирующее отношение к Телу, и это относится не только к тому, что фактически является, но и к каждой вещи, которая может явиться. Если я воображаю кентавра, я не могу не представить его в определённой ориентации и в особом отношении к моим органам чувств: он «справа» от меня; он «приближается» ко мне или «удаляется»; он «вращается», поворачивается ко мне или от меня – от меня, то есть от моего Тела, от моего глаза, направленного на него. В фантазии я действительно смотрю на кентавра; то есть мой глаз, свободно движимый, перемещается туда-сюда, адаптируясь так или иначе, и зрительные «явления», схемы, сменяют друг друга в мотивированном «надлежащем» порядке, благодаря чему они порождают сознание переживания существующего кентавра-объекта, рассматриваемого различными способами.
Помимо своего отличия как центра ориентации, Тело, в силу конститутивной роли ощущений, значимо для построения пространственного мира. Во всём конституировании пространственной вещности участвуют два рода ощущений с совершенно различными конститутивными функциями, и это необходимо, если должны быть возможны представления пространственного.
Первый род – это ощущения, которые посредством отведённых им схватываний конституируют соответствующие черты вещи как таковой путём абстрагирования. Например, ощущения-цвета с их ощущениями-протяжённостями: именно в схватывании этих ощущений появляются телесные окраски вместе с телесной протяжённостью этих окрасок. Подобным же образом, в тактильной сфере, телесная шероховатость появляется в схватывании ощущений шероховатости, а телесное тепло – в отношении к ощущению тепла и т. д.
Второй род – это «ощущения», которые не подвергаются таким схватываниям, но которые, с другой стороны, необходимо вовлечены во все те схватывания ощущений первого рода, поскольку они определённым образом мотивируют эти схватывания и тем самым сами подвергаются схватыванию совершенно иного типа, схватыванию, которое, таким образом, коррелятивно принадлежит всякому конституирующему схватыванию.
Во всём конституировании и на всех уровнях мы необходимо имеем «обстоятельства», соотнесённые друг с другом, и «то, что зависит» от всех обстоятельств: повсюду мы находим «если-то» или «потому-что». Те ощущения, которые подвергаются экстенсивному схватыванию (ведущему к протяжённым чертам вещи), мотивированы в отношении своих фактических или возможных процессов и апперцептивно соотнесены с мотивирующими рядами, с системами кинестетических ощущений, которые свободно развёртываются в связи с их привычным порядком таким образом, что если происходит свободное развёртывание одного ряда этой системы (например, любое движение глаз или пальцев), то из переплетённого многообразия как мотива должен развернуться соответствующий ряд как мотивированный.
Таким образом, из упорядоченной системы ощущений при движении глаз, при свободном движении головы и т. д. развёртываются такие-то и такие-то ряды в видении. То есть, пока это происходит, в мотивированном порядке развёртываются «образы» вещи, которая изначально была воспринята, чтобы начать движение глаз, и, подобным же образом, зрительные ощущения, относящиеся к вещи в каждом случае. Схватывание вещи как находящейся на таком-то расстоянии, как ориентированной таким-то образом, как имеющей такой-то цвет и т. д., как можно видеть, немыслимо без такого рода мотивационных отношений.
В сущности самого схватывания заложена возможность позволить восприятию распасться на «возможные» ряды восприятий, все из которых принадлежат следующему типу: если глаз поворачивается определённым образом, то так же изменяется и «образ»; если он поворачивается иначе, определённым образом, то образ изменяется иначе, в соответствии с этим. Мы постоянно находим здесь двойную артикуляцию: кинестетические ощущения с одной стороны, мотивирующие; и ощущения черт с другой, мотивированные. Подобное, очевидно, справедливо и для осязания, и, аналогично, повсюду.
Восприятие без исключения есть единое свершение, которое возникает по существу из взаимодействия двух коррелятивно связанных функций. В то же время отсюда следует, что функции спонтанности принадлежат всякому восприятию. Процессы кинестетических ощущений здесь суть свободные процессы, и эта свобода в сознании их развёртывания есть существенная часть конституирования пространственности.
b) Значение нормальных условий восприятия для конституирования интуитивной вещи и значение аномалий (изменение Тела, изменение вещи)
Теперь процессы восприятия, благодаря которым один и тот же внешний мир присутствует для меня, не всегда демонстрируют один и тот же стиль; вместо этого есть различия, которые дают о себе знать. Сначала одни и те же неизменные объекты появляются, в зависимости от изменяющихся обстоятельств, то так, то иначе. Одна и та же неизменная форма имеет изменяющийся вид в зависимости от её положения по отношению к моему Телу; форма появляется в изменяющихся аспектах, которые представляют «её саму» более или менее «выгодно».
Если мы оставим это в стороне и вместо этого рассмотрим реальные свойства, то обнаружим, что один и тот же объект, сохраняя одну и ту же форму, действительно имеет различные цветовые явления (форма как наполненная) в зависимости от его положения относительно освещающего тела; более того, цветовые явления различны, когда он находится под разными освещающими телами, но всё это происходит упорядоченным образом, который может быть определён более точно в отношении явлений.
В то же время определённые условия оказываются «нормальными»: видение при солнечном свете, в ясный день, без влияния других тел, которые могли бы повлиять на цветовое явление. «Оптимум», достигаемый тем самым, считается тогда самим цветом, в противоположность, например, красному свету заката, который «затмевает» все собственные цвета. Все другие цветовые свойства суть «аспекты», «явления» этого превосходного цветового явления (которое последнее называется «явлением» только в другом смысле: а именно, по отношению к более высокому уровню, физикалистской вещи, которую ещё предстоит обсудить).
Тем не менее, вещи присуще то, что её нормальный цвет постоянно изменяется, именно в зависимости от того, какие освещающие тела задействованы, ясный ли день или туманный и т. д., и только с возвращением нормальных обстоятельств нормальный цвет появляется вновь. «Сам по себе» к телу принадлежит цвет как существующий в себе, и этот цвет схватывается в видении, но он всегда является иначе, и аспект, который он представляет, полностью зависит от объективных обстоятельств, и он может быть выделен там более или менее легко (с предельным случаем полной невидимости). И степень видимости влияет также и на форму.
Следует также исследовать, все ли объективные обстоятельства изначально апперцепируются как каузальные, как исходящие от вещей. Определённые обстоятельства демонстрируют периодические изменения – например, отношения ночи и дня – и соответственно вещи, которые в ином случае переживаются как неизменные, например, вещи, данные как неизменные для осязания, подвергаются периодическим изменениям в развёртывании своих визуальных характеристик.
Что касается визуального способа данности, который выявляет цветовые характеристики, а также характеристики формы, становящиеся видимыми вместе с ними, то привилегия принадлежит ясному дневному свету, так что не только форма становится видимой особенно благоприятным образом вплоть до её тонких деталей, но и в этом свете такие глобальные характеристики видимы, через которые одновременно со-общаются свойства других чувственных сфер, свойства, данные в связи этих переживаний как не затронутые изменением цвета (например, материальные атрибуты, которые раскрываются, когда становится видимой структура поверхности).
Поэтому в ряду возможных явлений определённая данность вещи привилегирована тем, что с ней дано, относительно лучшее, и это приобретает характер того, что особенно намеревается: это преобладающий фокус «интереса», то, к чему стремится опыт, чем он завершается, в чём он исполняется; и другие способы данности становятся интенционально соотнесёнными с этим «оптимальным».
В нормальный опыт, в котором мир изначально конституируется как мир, «каков он есть», включены также и другие условия нормального опыта, например, видение в воздухе – которое считается непосредственным видением, видением без каких-либо опосредующих вещей – осязание через непосредственный контакт и т. д.
Если я помещаю чужеродную среду между моим глазом и видимыми вещами, то все вещи претерпевают изменение в явлении; точнее, все фантомные единства претерпевают изменение. Будет сказано: та же самая вещь видится, но через разные среды. Вещь не зависит от таких изменений; она остаётся той же. Только «способ явления» вещи (в данном случае, явление фантома) зависит от того, опосредуется ли между глазом и вещью та или иная среда.
Прозрачное стекло действительно является средой, сквозь которую можно видеть, но оно изменяет образы вещей по-разному в зависимости от своей различной кривизны, и, если оно окрашено, оно передаёт им свой цвет – всё это принадлежит сфере опыта. Наконец, если я надену цветные линзы, то всё будет выглядеть изменённым в цвете. Если бы я ничего не знал об этой среде, то для меня все вещи были бы окрашены. Поскольку у меня есть опытное знание об этом, это суждение не возникает.
Данность чувственных вещей считается, в отношении цвета, как бы данной, и видимость снова означает способ данности, который мог бы также возможным образом происходить таким образом внутри системы нормальной данности, при соответствующих обстоятельствах, и который побуждал бы к объективно ложному схватыванию там, где есть мотивы, вызывающие смешение, что эти обстоятельства весьма вероятно и производят. «Ложное» заключается в противоречии с нормальной системой опыта. (Изменение явления является единообразным для всех вещей, узнаваемым как единообразное изменение по типу.)
То же самое происходит, если вместо помещения среды между органом и вещью мы возьмём аномальное изменение самого органа. Если я касаюсь чего-то с волдырем на пальце или если моя рука была обожжена, то все тактильные свойства вещи даны по-другому. Если я скрещиваю глаза или скрещиваю пальцы, то у меня есть две «вещи зрения» или две «вещи осязания», хотя я утверждаю, что присутствует только одна действительная вещь.
Это относится к общему вопросу конституирования вещного единства как апперцептивного единства многообразия различных уровней, которые сами уже апперцепируются как единства множественностей. Апперцепция, приобретённая в отношении обычных условий восприятия, получает новый апперцептивный слой, принимая во внимание новый «опыт» распада одной вещи зрения на пару и слияния пары в форме непрерывного наложения и схождения при регулярном возвращении к прежним условиям восприятия.
Удвоенные вещи зрения действительно полностью аналогичны другим вещам зрения, но только последние имеют дополнительное значение «вещей»; и пережитый опыт имеет значение пережитого опыта восприятия только в отношении определённого «положения двух глаз», гомологичного или принадлежащего системе нормальных положений глаз. Если теперь возникает гетерология, то у меня действительно есть аналогичные образы, но они означают вещи только в противоречии со всеми нормальными мотивациями. Образы теперь снова получают схватывание «действительная вещь» именно через конститутивную связь, то есть мотивацию, которая ставит их в согласованное отношение к системе мотивированных воспринимаемых многообразий.
Если я вывожу свои глаза из нормального положения в несогласованное скрещенное положение, то возникают два кажущихся образа; «кажущиеся образы»: то есть образы, которые, каждый сам по себе, представляли бы «вещь» только если бы я придал им нормальные мотивации.
Дальнейшее важное соображение касается других групп аномалий. Если я принимаю сантонин, то весь мир «кажется» изменённым; например, он «изменяет» свой цвет. «Изменение» есть «кажимость». Впоследствии, как в случае с любым изменением цветного освещения и т. д., у меня снова есть мир, который соответствует нормальному: всё тогда согласуется и изменяется или не изменяется, движется или находится в покое, как обычно, и демонстрирует те же системы аспектов, что и прежде.
Но здесь необходимо отметить, что покой и движение, изменение и постоянство получают свой смысл посредством конституирования вещности как реальности, в которой такие события, особенно предельные случаи покоя и постоянства, играют существенную роль.
Поэтому глобальная окраска всех видимых вещей может легко «изменяться», например, когда тело испускает лучи света, которые «бросают свой блеск» на все вещи. В конституировании «изменения вещей по цвету» есть нечто большее, чем просто изменение наполненных схем в отношении цвета: изменение вещей изначально конституируется как каузальное изменение в отношении каузальных обстоятельств, как, например, каждое появление освещающего тела.
Я могу схватить изменение, не видя такого освещающего тела, но в этом случае каузальное обстоятельство неопределённым образом со-апперцепируется. Однако эти каузальные обстоятельства принадлежат порядку вещей. Относительность пространственных вещей по отношению к другим определяет смысл изменения вещей. Но психофизические обусловленности здесь вовсе не принадлежат. Это необходимо иметь в виду.
Само собой разумеется, однако, что моё Тело действительно вовлечено в каузальные связи: если оно схватывается как вещь в пространстве, оно, конечно, схватывается не как простая схема, а как точка пересечения реальных каузальностей в реальной (исключительно пространственно-вещной) связи.
К этой сфере принадлежит, например, тот факт, что удар моей руки (рассматриваемый чисто как удар телесной вещи, то есть исключая пережитый опыт «я ударяю») действует точно так же, как удар любой другой материальной вещи, и, подобным образом, падение моего Телесного тела подобно любому другому падению и т. д.
Теперь относительно приёма сантонина: это, следовательно, тоже, абстрагируясь от всех «сопутствующих психических фактов», материальный процесс, который вполне мог бы, если того требует конституирование мира опыта или дальнейшая разработка конституирования опыта этого мира в ходе новых опытов, войти в реальное отношение с оптическим изменением остального материального мира.
Сам по себе, таким образом, мыслимо, что я нашёл бы мотивы опыта для видения общего изменения цвета всего видимого мира и для рассмотрения этого изменения, в этом схватывании, как реально-каузального следствия материального процесса приёма сантонина (с его телесно-материальными последствиями). Это было бы нормальным восприятием, подобным любому другому.
Пока и всякий раз, когда я переживаю изменение всех видимых цветов как оптическое изменение вещей, я должен предполагать каузальное отношение между любыми причиняющими вещами, какие могут быть; только в каузальной связи изменение есть именно изменение вещи. Как только возникают противоположные мотивы опыта, то необходимо происходит преобразование в схватывании, в силу которого «изменение», которое видится, теряет смысл изменения и сразу же приобретает характер «кажимости».
Кажущееся изменение есть схематическое преобразование, схваченное как изменение при нормальных условиях, таким образом, в отношении опытов, конституирующих каузальность. Но теперь оно дано таким образом, что отменяет каузальное схватывание. Каузальное схватывание подсказывается данным схематическим преобразованием: как будто оно представляло бы изменение, но это, при данных обстоятельствах, исключено.
Приём сантонина не является, в отношении общего «изменения цвета», процессом, который схватывается или мог бы схватываться как причина. Сдвиг цвета всех видимых вещей таков, что нет даже побуждения рассматривать его вообще как реальное изменение освещения (например, в виде источника света, испускающего цветные лучи). Поэтому оно представляется как кажущееся изменение; всё выглядит «как будто» там был новый источник света, сияющий, или «как если бы» каким-то другим образом реальные причины были там, вызывая общее оптическое изменение (даже если эти причины неопределённы, неизвестны). Но такие причины теперь не могут предполагаться; они, учитывая всю ситуацию опыта, исключены.
Мы должны спросить: что может, на основе преобразования в чувственной вещи, полностью отменить апперцепцию реального изменения таким образом, в противоположность случаям, когда такая апперцепция, уже осуществлённая, лишь подвергается модификации (тем фактом, что другая каузальная связь заменяется той, которая предполагалась, то есть предполагаемая причина отвергается, но принимается другая причина)?
Ответ – модификация в сфере психофизической «каузальности» или, лучше сказать, «обусловленности». (Ибо causa в собственном смысле есть именно реальная причина. Субъективное же, в противоположность реальности, есть нереальность. Реальность и нереальность принадлежат друг другу по существу в форме реальности и субъективности, которые, с одной стороны, взаимно исключают друг друга, а с другой стороны, как говорится, по существу требуют друг друга.)
Помимо отношений реального к реальному, которые принадлежат сущности всего реального как пространственные, временные и каузальные отношения, к этой сущности также принадлежат отношения психофизической обусловленности в возможном опыте. Вещи «переживаются», «интуитивно даны» субъекту, необходимо как единства пространственно-временного-каузального отношения, и необходимо относящееся к этому отношению – это выдающаяся вещь, «моё Тело», как место, где, и всегда по существенной необходимости, система субъективной обусловленности переплетена с этой системой каузальности и действительно таким образом, что в переходе от естественной установки (взгляда, направленного в опыте на природу и жизнь) к субъективной установке (взгляду, направленному на субъект и на моменты субъективной сферы), реальное существование, а также многообразные реальные изменения даны как в обусловленной связи с субъективным бытием, с состоянием бытия в субъективной сфере.
Нечто вещное переживается (перцептивно апперцепируется, чтобы дать привилегию изначальному опыту) таким образом, что через простой сдвиг фокуса возникают отношения зависимости апперцепированного состояния вещи от сферы ощущений и от остальной субъективной сферы. Здесь мы имеем изначальное состояние психофизической обусловленности (под этим заголовком включены все обусловленные отношения, которые проходят туда и обратно между вещным и субъективным бытием).
К каждой психофизической обусловленности необходимо принадлежит соматологическая каузальность, которая непосредственно всегда касается отношений нереального, события в субъективной сфере, с чем-то реальным, Телом: затем опосредованно отношений с внешней реальной вещью, которая находится в реальной, следовательно, каузальной связи с Телом.
c) Значение психофизической обусловленности для различных уровней конституирования
Реальный мир изначально конституируется уровнями таким образом, что множество чувственных вещей (множество полных схем) возводится как субстрат в единстве пространственной формы. Чувственные вещи при этом конституируются в субъективном способе «ориентации» и конституируются для нас (является ли это необходимостью – особый вопрос) таким образом, что особая чувственная вещь – «Тело» – дана как постоянный носитель центра ориентации. Реализация затем завершается так, что чувственные вещи становятся состояниями реальных вещей; конституируется система реальных качеств, система регулируемых взаимных отношений чувственных вещей под заголовком причинности.
Именно конституирование субстрата придаёт всем вещам в опыте, то есть в той мере, в какой они в своих мгновенных состояниях являются чувственными вещами, наиболее изначальную психофизическую обусловленность. Чувственные вещи суть то, что они есть, как единства «в» множестве восприятий и кинестетических констелляций субъективности, и они тем самым всегда присутствуют в сознании как мотивирующие соответствующие аспекты как мотивированные. Только в этой связи аспекты являются аспектами чувственных вещей. Здесь существенно задействовано возможное изменение установки, посредством которого чувственная вещь в своей данности становится условно зависимой от телесности, от того, что я открываю глаза, чтобы посмотреть, от движений моих глаз, от того, что я провожу руками, управляемыми субъективностью, по вещам, чтобы ощутить их, и т. д. Эта полная система обусловленности, которая регулируемым образом связывает чувственные вещи и субъективные события, лежит в основе высшего слоя апперцепции и затем становится психофизической обусловленностью между, с одной стороны, моим Телом и его причинными переплетениями во вне-телесной природе, и, с другой стороны, субъективными потоками ощущений, потоками изменяющихся аспектов и т. д. К этому изначальному состоянию психофизических обусловленностей затем добавляются новые, уже предполагающие их конституирование, то есть возникающие из аномалий Тела.
В системе нормальных – «ортoэстетических» – явлений, сливающихся в единство согласованного опыта, иногда происходят разрывы. Все вещи внезапно кажутся изменёнными, так же как и Тело. Система ортоэстетических явлений одной и той же вещи распадается на группы, и могут возникать несогласованные явления по группам. Если мы ограничимся этими группами, в которых вещь уже является как согласованно идентичная, то при переходе от прежних связей в той же группе к новым вещь предстаёт как «внезапно изменившаяся», тогда как в других группах она дана как неизменная. Каждая частичная система как перцептивная система сама по себе имеет равные права. Таким образом, мы получаем несогласованность, и сначала бессмысленно говорить суммарно, что восприятия одного чувства могли бы быть «исправлены» восприятиями других чувств. Возможно, дополнены, поскольку они все вносят вклад в конституирование данности вещи. Являющаяся вещь, таким образом, отсылает ко всем ним и оставляет многое открытым, как мгновенное явление, в различных сенсорных сферах, что может быть определено точнее, а значит, дополнено посредством новых восприятий и обращения к восприятиям сенсорной сферы, которая не была задействована, но к которой мы были отнесены неопределённо.











