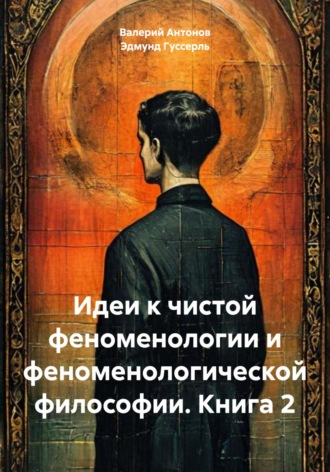
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
О каждом виде качества можно сказать, что оно может иметь свои особые способы заполнения телесного пространства, покрытия его, распространения по нему. Но непременно это будет качество, которое заполняет.
Первичные и вторичные качества.
Вещь не знает иных экстенсивных определений, кроме:
1. чистой телесности (первичное качество)
2. и модифицирующих чувственных качеств – «квалифицирующих» вторичных качеств.
– Мгновенная окраска вещи (то есть её текущее оптическое состояние из множества возможных, в котором проявляется единство её тождественных оптических свойств) покрывает всю внешнюю поверхность телесной вещи определённым образом.
– Однако совершенно иначе теплота заполняет тёплое тело,
– иначе запах заполняет пахнущее,
– и ещё иначе – вес и подобные реальные определения.
Вес имеет свою протяжённость в том смысле, что любое дробление вещи, сколь угодно тщательное, дробит и сам вес вещи.
Вещь может в изменении условий своего существования приобретать и вновь утрачивать те или иные заполняющие свойства. Без телесной протяжённости нет никакого веса. Однако, конечно, и сама протяжённость не может существовать сама по себе; её особое положение – не положение одного реального свойства среди других.
Протяжённость как сущностная форма реальных свойств.
Вещь есть то, что она есть, в своих реальных свойствах, но каждое из них, взятое отдельно, не необходимо в том же смысле. Каждое – это луч бытия вещи.
Но телесная протяжённость – не луч реального бытия в том же смысле; она не является (строго говоря, «никоим образом не является») реальным свойством. Скорее, она есть сущностная форма всех реальных свойств.
Вот почему пустое телесное пространство реально есть ничто; оно существует лишь в той мере, в какой вещь со своими вещными свойствами протяжена в нём.
Точнее: тело – это реальное определение, но фундаментальное определение (сущностное основание) и форма для всех прочих определений.
Протяжённость как сущностная характеристика материальности.
В этом смысле протяжённость – это сущностная характеристика материальности, хотя (а точнее, именно потому, что) она в совершенно ином смысле является «реальным свойством»; это сущностный атрибут, если использовать термин в таком значении.
Она выражает характерную сущностную форму существования для материального или физического бытия (сущностную форму для всех реальных определений, в которых раскрывается вещное существование) – и, следовательно, для чисто физической вещи, хотя и не для вещи в её полноте, поскольку в сущность вещного бытия как целого входит также темпоральность.
Пространственность психического и проблема тела.
Люди и животные имеют своё положение в пространстве и движутся в нём как чисто физические вещи. Можно сказать, что они делают это «благодаря» своим телам.
Однако было бы странно утверждать, что движется только тело человека, но не сам человек, что «тело человека идёт по улице, едет в машине, живёт в деревне или городе», но не человек.
Таким образом, уже с самого начала видно, что и в этом отношении среди свойств тела есть различия.
Можно сказать, что тело обладает такими свойствами, как вес, размер и т. д., которые мы приписываем и другим, и себе, хотя и с полным осознанием, что они по праву принадлежат лишь материальному телу. Очевидно, лишь поскольку у меня есть тело, у меня есть размер и вес. Если я приписываю себе местоположение, то это и местоположение моего тела.
Но не чувствуем ли мы изначально определённое различие, в силу которого пространственность принадлежит мне несколько более существенно?
Но давайте рассмотрим этот вопрос систематически.
.Философские параллели и пояснения
1. Декарт и дуализм res extensa и res cogitans.
– Гуссерль здесь развивает идею, близкую к картезианскому разделению на протяжённую субстанцию (материя) и мыслящую субстанцию (сознание). Однако, в отличие от Декарта, он не противопоставляет их резко, а показывает, как психическое укоренено в телесном.
2. Кант: пространство как априорная форма чувственности.
– У Канта пространство – не объективная реальность, а форма восприятия. Гуссерль же говорит о конститутивной роли протяжённости в самой структуре вещи.
3. Беркли и вторичные качества.
– Как и Беркли, Гуссерль различает первичные (объективные, геометрические) и вторичные (чувственные) качества, но не сводит реальность к восприятию.
4. Мерло-Понти: феноменология тела.
– Позднее Мерло-Понти разовьёт идею о том, что тело – не просто объект, а «точка зрения на мир», что перекликается с гуссерлевским анализом телесности.
Ключевые термины.
– Протяжённость (Extension) – не просто пространственность, а форма реальности материальной вещи.
– Телесность (Corporeality) – конкретная наполненность пространства вещью.
– Первичные/вторичные качества – различение, идущее от Локка, но у Гуссерля акцент на способе заполнения пространства.
– Конститутивные свойства – те, без которых вещь не была бы сама собой.
Важно: Этот параграф закладывает основы для понимания материальности в феноменологии и подготавливает переход к анализу телесности и душевного.
§ 14. Значение протяженности для структуры животного мира.Объекты природы во втором, расширенном смысле – это, взятые в полной конкретности, животные реальности, характеризующиеся как тела с душой. Они являются обоснованными реальностями, которые предполагают в себе, в качестве своего низшего слоя, материальные реальности – так называемые материальные тела. Более того, у них есть (и в этом их новизна) помимо специфически материальных определений еще и новые системы свойств – психические. При этом мы оставляем открытым вопрос, следует ли под этим заголовком проводить различие на два слоя: чувственный (эстетический) и собственно психический.
В опыте эти новые свойства, о которых мы говорим, даны как принадлежащие соответствующему телу, и именно благодаря им оно называется телом или организмом, то есть «органом» для души или духа. С другой стороны, мы должны сказать, что эти свойства не являются материальными, а это значит, что по своей сущности они не обладают протяженностью, они даны не так, как даны все свойства, наполняющие телесную протяженность.
Но то, являются ли свойства протяженными или нет, а значит, являются ли объекты, обладающие этими свойствами, материальными или нет, – это не случайные, а сущностные вопросы. Люди и животные обладают материальными телами, и в этом отношении они обладают пространственностью и материальностью. Однако в том, что специфически человечно и животно, то есть в психическом, они не материальны, и, следовательно, взятые как конкретные целостности, они не являются материальными реальностями в строгом смысле.
Материальные вещи поддаются фрагментации, что связано с протяженностью, принадлежащей их сущности. Но люди и животные не могут быть фрагментированы. Люди и животные пространственно локализованы; и даже психическое в них – по крайней мере, в силу своей сущностной обоснованности в телесном – причастно пространственному порядку. Мы даже скажем, что многое из того, что включается под широким (и первоначально не проясненным) заголовком психического, имеет нечто вроде распространенности (хотя и не пространственной протяженности). Однако в принципе ничто на этой стороне не является протяженным в строгом смысле – в том специфическом смысле протяженности, который мы описали.
Разбор сложных моментов и философские параллели.
1. «Обоснованные реальности» (founded realities).
– Термин восходит к феноменологии Эдмунда Гуссерля (особенно к «Идеям к чистой феноменологии»). Речь идет о том, что высшие слой бытия (например, психическое) возникают на основе низших (материального), но не сводятся к ним.
– Аналогии:
– У Николая Гартмана в «Новой онтологии» – слои реальности (материальное, органическое, психическое, духовное).
– У Аристотеля («О душе») – душа как форма тела, не существующая отдельно от него.
2. «Психическое не обладает протяженностью» .
– Прямая отсылка к Декарту («Размышления о первой философии»), который противопоставлял res extensa (протяженную субстанцию, материю) и res cogitans (мыслящую субстанцию, дух).
– Критика: у Спинозы («Этика») психическое и физическое – атрибуты единой субстанции, а не отдельные сущности.
3. «Фрагментация материального vs. нераздельность живого».
– У Гегеля («Философия природы») организм – целое, которое нельзя разложить на части без утраты сущности.
– Современная философия сознания (например, Дэвид Чалмерс) обсуждает, почему сознание нельзя «разделить» так же, как физический объект.
4. «Психическое имеет распространенность, но не протяженность».
– Намек на гуссерлевское понятие интенциональности: сознание «направлено» на объект, но не занимает места в пространстве.
– У Бергсона («Материя и память») – различие между пространством (материя) и длительностью (сознание).
1. Живые существа как единство материального и психического.
Гуссерль развивает идею "обоснованных реальностей" (fundierte Realitäten):
– Материальное тело (низший слой) – это субстрат, подчиняющийся законам физики (протяженность, делимость, каузальность).
– Психическое (высший слой) – нередуцируемо к материи, но не существует без нее (ср. с аристотелевской душой как формой тела).
– Организм – не просто механизм, а целостность, где психическое "оживляет" материальное (ср. с витализмом Дриша или философской антропологией Шелера).
Критика натурализма: Гуссерль отвергает редукцию жизни к физико-химическим процессам (как у материалистов XIX века).
2. Психическое непространственно, но связано с телом .
– Декартовское влияние:
– Res extensa vs. res cogitans – душа не имеет протяжения, но соединена с телом (через шишковидную железу).
– Гуссерль отвергает дуализм, но сохраняет идею качественного различия: психическое дано в имманентном времени сознания, а не в пространстве.
– Связь с телом:
– Психическое локализовано (болит именно моя рука), но не протяженно (боль нельзя измерить в метрах).
– Это близко к Мерло-Понти ("Феноменология восприятия"): тело – не объект, а "точка зрения на мир".
3. Неделимость жизни vs. делимость материи.
– Холизм:
– Организм – не сумма частей, а целое, определяющее свои части (ср. с Гегелем: "Истинное есть целое").
– Разрезанное животное умирает – оно перестает быть собой, в отличие от разбитого камня.
– Виталистические мотивы:
– У Гуссерля нет "жизненной силы" (как у Дриша), но есть акцент на интенциональности и смысловой организации живого.
– Критика: Хайдеггер ("Бытие и время") позже скажет, что жизнь – не "свойство" организма, а способ бытия-в-мире.
4. Важные уточнения.
– Не путать с дуализмом: Гуссерль – не дуалист, как Декарт, а феноменолог: психическое и материальное – коррелятивные аспекты опыта.
– Влияние на современность:
– Эта проблематика жива в философии сознания (Чалмерс: "трудная проблема сознания").
– Биосемиотика (Уэкскюль) тоже говорит о "жизненном мире" организма как нередуцируемом к физике.
Важно:
Гуссерль здесь:
1. Противопоставляет механистическому взгляду на жизнь феноменологический (живое – осмысленное единство).
2. Отвергает пространственность психического, но не разрывает связь души и тела.
3. Настаивает на целостности живого – это станет основой для экзистенциальной и герменевтической антропологии.
§ 15. Сущность материальности (субстанции).Прежде чем углубиться в различие между локализацией и протяженностью, а также исследовать способ связи между материальным телом и тем, что придает животности полноту (т. е. психическим), мы сначала рассмотрим более внимательно сами термины этой связи.
Физическая или материальная вещь – это res extensa (протяженная вещь). Мы уже раскрыли смысл её «атрибутивной сущности» – extensio (протяженности). Но что составляет понятие этой res? Что означает «протяженная реальность» или просто «реальность»? Говорят также о «протяженной субстанции». Но что же подразумевается под этой субстанциальностью в её наиболее универсальном смысле?
Материальная вещь подпадает под логическую категорию простого индивида («абсолютного» объекта). К ней относятся логические (формально-онтологические) модификации: индивидуальное свойство (например, качество быть вещью), состояние, процесс, отношение, комплекс и т. д. В каждой сфере бытия мы находим аналогичные вариации, поэтому для достижения феноменологической ясности необходимо вернуться к индивиду как изначальной объективности. Именно из него все логические модификации получают свою смысловую определенность.
а) Феноменологический анализ данности вещи как путь к определению сущности «материальной вещи».
Если мы хотим постичь саму вещь, то должны, стремясь ухватить её сущность и определить её концептуально, отказаться от расплывчатых выражений и традиционных философских предрассудков, обратившись к источнику ясной данности. Таким образом, нам необходимо вернуться к сознанию, в котором вещи даны нам изначально и полно, так что нам не будет недоставать ничего для постижения универсальной сущностной формы, предписывающей априорное правило для таких объектов.
Чтобы привести вещь к такой данности, недостаточно простого восприятия или даже воображения себя в акте восприятия. Этого мало. Недостаточно увидеть этот стол и бросить на него воспринимающий взгляд или даже объединить несколько восприятий стола и других вещей. Скорее, необходимо «проследить» воспринимаемое в акте восприятия и переживания (будь то реальное переживание или воображаемое). Задача состоит в том, чтобы представить себе (если нужно, через свободную фантазию) серии восприятий, связывающихся в непрерывное единство, в котором воспринимаемый объект остается одним и тем же и тем самым раскрывает в последовательности восприятий всё более полно то, что принадлежит его сущности.
В ноэме акта восприятия (т. е. в воспринятом, взятом именно как феноменологически характеризованное интенциональное объективное) содержится определенная направленность для всех дальнейших переживаний данного объекта. Стол дан в акте восприятия, но дан каждый раз определенным образом. Восприятие имеет свой перцептивный смысл – «означаемое, как оно означается», – и в этом смысле заложены указания, неисполненные антиципации и ретроспективные отсылки, которые мы должны лишь проследить.
Например, явление стола – это стол, являющийся с передней стороны, с определенным цветом, формой и т. д. В смысле этого означаемого заложено, что означаемая форма или цвет отсылают к новым явлениям в определенной последовательности, благодаря чему не только уже явленное становится явленным лучше, но и неявленные стороны (которые, однако, соозначаются, пусть и неопределенно) достигают данности, их выявляющей. Таким образом, заранее намечаются все направления определенности, заложенные в вещи как таковой, и это относится ко всем возможным мотивированным ходам восприятия, к которым я могу обратиться в свободной фантазии – и к которым я должен обратиться, если хочу прояснить смысл модусов определенности и, следовательно, полное содержание сущности вещи.
Только если мы вопрошаем само ноэматическое ядро вещи (так сказать, «смысл вещи»), приводя его к данности, развертывающейся во всех направлениях, и только если мы позволяем ответу исходить из него самого в актуальном исполнении его указаний, – только тогда мы действительно постигаем сущностные компоненты вещности и необходимые сущностные взаимосвязи, без которых немыслимо то, что вообще подразумевается под вещью.
Если бы мы захотели развить этот метод in extenso, то получили бы множество фундаментальных констатаций относительно сущности вещи. Мы ограничимся лишь некоторыми, особенно примечательными.
б) Подвижность и изменчивость как составляющие материальной вещи; схема вещи.
Прежде всего, мы легко убеждаемся, что возможности движения и покоя, качественного изменения и постоянства принципиально основаны на сущности материальной вещи вообще. Вещь может фактически быть неподвижной и неизменной, но было бы бессмысленно утверждать, что она в принципе неподвижна и неизменна. С другой стороны, она может быть абсолютно неизменной; в интуиции мы можем схватить идею вещи, неизменной во всех отношениях (хотя бы как идеальный предельный случай).
Если мы возьмем эту идею за отправную точку и будем удерживать вещь саму по себе, отвлекаясь от связей, в которых она есть вещь, то заметим, что у нас не будет никаких средств отличить сущность вещи от сущности пустого фантома, и то, чем вещь превосходит фантом, не будет дано нам в актуальной, проявляющей данности в указанном смысле.
Например, перед нами лишь фантом, когда мы учимся в стереоскопе сливать подходящие организации в телесное единство. Мы видим пространственное тело, о котором можно осмысленно спрашивать о его форме, цвете, даже о гладкости, шероховатости и других подобных определениях – и получать ответы в соответствии с истиной, например: «Это красная, шероховатая пирамида». Однако то, что является, может быть дано так, что вопросы о том, тяжелое оно или легкое, упругое, магнитное и т. д., не имеют смысла или, точнее, не находят опоры в перцептивном смысле. Мы видим именно не материальную вещь. Весь класс материальных определений отсутствует в смысловом содержании апперцепции, совершенной в данном примере.
Речь не о том, что они неопределенны и оставлены открытыми (как это бывает в любом восприятии вещи, где из-за компонентов неопределенности в схватывании многое остается неясным). Например, относительно точного цвета невидимой обратной стороны, уже как-то апперцепированной как красной: полностью ли она однородно красная или содержит пятна и полосы? Или относительно формы вещи, схваченной лишь как нечто согласованное: какова она там, где переходит в невидимое? Или: твердое это тело или мягкое, металлическое или нет и т. д.?
Скорее, дело в том, что без ущерба для иных неопределенных элементов, которые остаются открытыми, целые группы признаков вообще не представлены в апперцепции – а именно те, что относятся к материальности в указанном смысле. Точно так же мы видим радугу, голубое небо, солнце и т. д.
Отсюда мы делаем вывод: наполненное пространственное тело (квалифицированное тело), наполненное протяженно-качественным содержанием, – это ещё не вещь, не вещь в обычном смысле материально-реального. В равной мере ясно, что всякая чувственная вещь в своей данности требует как основного элемента своей сущности (а значит, неустранимо) такого наполненного пространственного тела. Она всегда дана как протяженно наполненная, но дана как нечто большее.
Мы говорим, что чувственная схема принадлежит сущности вещи, и понимаем под этим основу – телесную («пространственную») форму вместе с наполняющим её качественным содержанием. Вещь, являющаяся в покое и качественно неизменной, «показывает» нам не более чем свою схему (точнее, явленное), хотя в то же время она апперцепируется как нечто материальное. Но в этом отношении она не «показывает» себя, не приходит к собственной данности, к изначальной явленности. Если бы весь слой материальности был исключен из апперцепции, это ничего не изменило бы в «собственно» данном.
В исходном опыте, восприятии, «тело» немыслимо без чувственной квалификации; однако фантом изначально дан (а значит, мыслим) и без компонентов материальности, тогда как последние не могут существовать сами по себе (одностороннее отделение).
Если мы рассмотрим различные изменения – пространственные (перемещение, деформация) и качественные, – то снова заметим то же самое: в восприятии вещных изменений нам актуально даны лишь непрерывные последовательности чувственных схем, или, как можно сказать, чувственная схема вещи претерпевает непрерывное изменение. Но и здесь ясно, что дано лишь то, что могло бы быть дано и как чистый «фантом». Фантомы (в указанном смысле чистой пространственной данности без слоя материальности) тоже могут двигаться, деформироваться, изменяться качественно в цвете, яркости, звуке и т. д.
Следовательно, материальность может изначально со-схватываться, но не со-даваться.
Сразу стоит подчеркнуть, что понятие схемы (понятие фантома) не ограничивается одной сферой чувств. Воспринимаемая вещь имеет и свою тактильную схему, проявляющуюся в осязательном схватывании. Вообще, в полной схеме можно выделить столько слоёв, сколько есть классов чувственных данных, распространяющихся на пространственную протяженность (являющуюся чем-то тождественным) вещи. Однако схема не становится множественной из-за этого многообразия наполнения. Чувственные качества наполняют одну, абсолютно тождественную пространственную телесность и делают это на нескольких уровнях, которые из-за этой тождественности и своей сущностной неотделимости от протяженности не могут в принципе распадаться на отдельные схемы.
Рассмотрим это ещё немного ближе: пусть дано одно и то же тело, форма которого едина и протяженность которого едина, но которое даёт себя двояко – как телесность, которая и видима, и осязаема. Тело цветное; то есть оно окрашено во всех своих частях и в своей полной протяженности, либо равномерно, либо с разными цветами для разных частей (поверхности). Однако тело цветно только в своём «оптическом явлении». В «тактильном пространстве», в осязаемо являющейся (осязаемо данной) телесности цвет не дан.
С другой стороны, гладкость дана тактильно, как яркость – визуально. Влажность нельзя увидеть – только почувствовать. В лучшем случае её можно «со-увидеть», подобно тому как апперцепция шелковистой тактильности со-представляет тусклый блеск. Шероховатость можно и почувствовать, и «увидеть»; так же и ребристую поверхность.
Существует точная аналогия между способом или формой визуального наполнения телесности и тактильного; то есть каждый имеет форму переживания перехода в рамках непрерывной апперцепции; форма одна и та же. Аналогично, для самой структуры вещи, для чистой пространственной телесности, кажется, существует эта аналогия в форме комплекса, несмотря на разный способ чувственной данности.
Однако здесь мы хотим говорить не об аналогии, а о тождестве. Как приходят к утверждению тождества? Это одно и то же объективное свойство, которое проявляется и в яркости, и в гладкости. В любом случае, я принимаю тело как одно и то же. Тело имеет лишь одну структуру, одну протяженность, или, лучше: воспринимаемая вещь имеет лишь одну пространственную телесность (пространственную структуру). Кроме того, вещь имеет свой цвет, свою яркость (схваченную в видении), свою гладкость (схваченную тактильно) и т. д. Более того, она может звучать, излучать тепло или холод и т. д.
Движение тела тоже может быть схвачено посредством нескольких различных чувств как изменение места вещной пространственной телесности.
Удар и давление нельзя увидеть в собственном смысле; можно увидеть лишь их пространственные и формальные последствия. Давление, тяга и сопротивление воспринимаются не просто осязанием. Нужно «напрячь мышцы», «упираться» и т. д. Но я схватываю визуально множество событий, когда одно тело давит на другое: например, я вижу, что тело, ударяющее другое, отталкивает его, что движение тела из-за удара ускоряется или замедляется соответственно и т. д. Нечто подобное, хотя и не так легко, я схватываю через осязание и мышечное чувство.
Здесь возникает различие между геометрическим и механическим движениями, причем механическое не может быть оценено исключительно одним чувством. Более того, мы находим параллелизм между чувственными качествами и экстенсиональными событиями: тепло и холод закономерно связаны с расширением и сжатием. Везде апперцепция включает в себя через посредство «чувства» пустые горизонты «возможных восприятий»; таким образом, я могу в любой момент вступить в систему возможных и, если я их прослежу, актуальных перцептивных связей.
Мы можем сказать, что пространственное тело есть синтетическое единство множества слоёв «чувственных явлений» разных чувств. Каждый слой сам по себе однороден, относится к одному чувству; это вопрос одной апперцептивной перцепции или перцептивного многообразия, которое однородно протекает и продолжается. Каждая такая перцепция (и серия перцепций) имеет свои дополнения в виде параллельных апперцепций других слоёв, которые составляют «со-данность» (не актуальную данность), делающую возможным последующее исполнение в актуальной перцепции.
Данное оптическое исполнение визуальной схемы отсылает к тактильной стороне схемы и, возможно, к её определённому исполнению. «Ассоциативно» одно вызывает другое. Опыт учит меня узнавать новые исполнения, которые апперцепируются не как вновь возникшие, а как уже существовавшие и продолжающие принадлежать телу. Это уже имеет место для одного слоя самого по себе. Я вижу переднюю сторону схемы, и многое остаётся неопределённым сзади. Но заднюю сторону оно, конечно, имеет. Подобным же образом тело имеет и тактильную сторону (или слой); просто она пока не определена.











