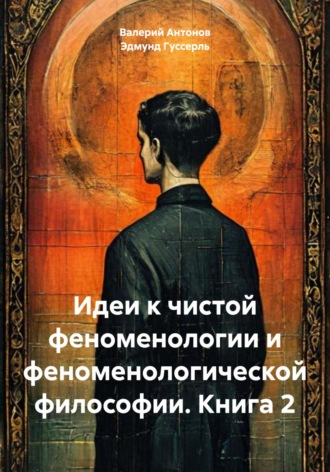
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
Тело есть единство опыта, и в смысле этого единства заложено, что оно является указанием на множество возможных опытов, в которых тело может приходить к данности всё новыми способами. Тем самым мы сначала берём тело независимо от всякой каузальной обусловленности, т. е. лишь как единство, представляющее себя визуально или тактильно через множественность ощущений, наделённое внутренним содержанием характерных черт. Некоторые из выбранных примеров (апперцепция механических качеств) уже выходят за рамки этого ограничения.
Но в сказанном также подразумевается, что при указанной предпосылке (а именно, что мы берём вещь вне связей, в которых она есть вещь) мы не находим в ходе исполнения опытов никакой возможности вынести решение, в проявляющем способе, о том, является ли испытуемая материальная вещь актуальной или же мы подвержены иллюзии и испытываем лишь фантом.
Апеллировать к существующей координации разных чувств значило бы неверно понять нашу проблему. Полагание вещи (doxa), заложенное в восприятии, очевидно мотивировано актуально данным, т. е. явленной схемой, и также очевидно, что схема, являющаяся в большем числе аспектов, должна обладать большей мотивирующей силой. Однако если бы материальность вещи не была актуально и собственно дана откуда-то ещё (генетически говоря: если бы в подобных случаях содержание определения специфически материального никогда не было нам дано), то тогда действительно не было бы ничего, в отношении чего интуиция схемы могла бы иметь мотивирующую функцию.
в) Проявление материальности вещи через её зависимость от обстоятельств.
Теперь настало время устранить недостаток, а именно снять предпосылку, которую мы до сих пор допускали. До сих пор мы брали вещь изолированно. Но вещь есть то, что она есть, в отношении к «обстоятельствам». Если мы сопоставим изменение фантома и изменение вещи, то ясно увидим, что они не одно и то же и что их нельзя различить друг от друга по чистому содержанию, которое в одном случае принадлежало бы под заголовком «материальность», а в другом – отсутствовало.
Очевидно, что изменения в вещи могут происходить, в то время как чувственная схема вообще не меняется, и наоборот, вещь может оставаться неизменной, в то время как схема меняется. Пример последнего – когда одна и та же неизменная вещь воспринимается при изменяющемся дневном свете или при хроматическом освещении, которое находится в процессе изменения, и т. д.
Реальность в собственном смысле, здесь называемая «материальностью», не лежит в простой чувственной схеме и не могла бы быть приписана воспринятому, если бы нечто вроде отношения к «обстоятельствам» не относилось к воспринятому и не имело бы для него смысла; скорее, она лежит именно в этом отношении и в соответствующем способе апперцепции.
При изменяющемся освещении, т. е. в отношении к чему-то ещё, что освещает, вещь выглядит постоянно иной, и не как попало, а определённым образом. Здесь явно налицо функциональные связи, относящие схематические модификации одного аспекта к модификациям других аспектов.
К смыслу апперцепции вещи как вещи (но не простого фантома) относится то, что такие схемы, протекающие в определённых сериях модификаций, которые то изменяются, то не изменяются определённым образом, переживаются как указания на одну и ту же вещь. Но так мы их переживаем постольку, поскольку они протекают как «зависимые» от «реальных обстоятельств», которые к ним относятся.
Так, в нашем примере мы переживаем одну и ту же вещь в отношении её оптических свойств, которые сохраняют своё единство и определённость на протяжении изменения освещения, производимого соответствующими источниками света. Поскольку схемы наполнены цветом, это единство пронизывает их. Тем самым конституируется «объективный» цвет, тот, который принадлежит вещи независимо от того, находится ли она на солнечном свету, в сумерках или в темноте шкафа, и это имеет место для любых условий освещения, к которым, таким образом, функционально относятся вполне определённые схемы, включая полное наполнение визуальной схемы.
Пока обстоятельства остаются неизменными, схема тоже остаётся неизменной. Непрерывное изменение обстоятельств влечёт непрерывное изменение схемы; и точно так же непрерывная неизменность, инвариантность в поведении явлений, функционирующих как обстоятельства, влечёт в тот же промежуток времени непрерывную неизменность зависимой от них схемы.
Таким образом, отсутствие изменения есть предельный случай изменения; оно подчиняется правилу, согласно которому сходным обстоятельствам принадлежат сходные функциональные зависимости.
Возьмём другой пример. Стальная пружина, будучи однажды приведена в движение, совершает определённые колебания и проходит через определённые последовательности состояний относительного изменения места и деформации: пружина обладает реальным свойством «упругости». Как только дан определённый импульс, происходит соответствующее отклонение от состояния покоя и определённый соответствующий способ колебания. Как только действует другой импульс, происходит другое соответствующее изменение в пружине, хотя и сходного интуитивного типа.
Если импульс отсутствует, другие обстоятельства всё же могут изменяться и действовать способом, сходным с действием импульса. Если обстоятельства (все те, которые являются «обстоятельствами» именно в отношении упругости) остаются неизменными на протяжении, то пружина остаётся в состоянии неизменности.
При сходных обстоятельствах – сходные следствия: так при сходных изменениях обстоятельств – сходные способы колебания. Общее правило, которому отсутствие изменения подчиняется как предельный случай изменения, как таковое не приходит в сознание; здесь оно выражает форму, внутренне присущую апперцепции реального свойства.
Апперцепция реального свойства включает эту артикуляцию в обстоятельства и включает функционально зависимые изменения схем таким образом, что в любом данном случае есть эта зависимость, и это не просто нечто абстрактное. С другой стороны, однако, вещь и свойство схватываются объективирующим образом, но схема и обстоятельства (понимаемые также как схематические) – нет.
Именно таким образом конституируется каждое «объективное», «реальное» свойство феноменальной вещи. Реальное самой вещи столь же множественно, сколь она имеет, в этом смысле, реальные свойства, которые суть единства по отношению к множествам схематических регуляций в отношении соответствующих обстоятельств.
г) Схема как реальная определённость материальной вещи.
Благодаря этой реализующей апперцепции (т. е. как конституирующей реальную вещь как субстрат реальных свойств) текущая схема приобретает характер реальной определённости особого смысла.
Против реального единого свойства, в нашем примере неизменного объективного цвета, стоит мгновенное реальное состояние, соответствующее «обстоятельствам» и изменяющееся по правилам. Состояние совпадает со схемой; однако это не просто схема (ведь вещь – не просто фантом).
Изменённой апперцепции соответствует изменённый коррелят. То есть в апперцепции вещи схема воспринимается не как протяжённость, наполненная лишь чувственно, а именно как изначальное проявление или «документирование» (изначальное проявление) реального свойства и, тем самым, как состояние реальной субстанции в данный момент времени.
Само свойство приходит к актуально наполняющей – т. е. изначальной – данности только тогда, когда достигается изначальное развёртывание функциональными сериями, в которых зависимости от соответствующих обстоятельств (т. е. каузальные зависимости) приходят к изначальной данности. В этом случае каузальности не просто предполагаются, но «видятся», «воспринимаются».
Тем самым очевидно, что направление взгляда в интенциональном схватывании реального свойства и направление взгляда в интенциональном схватывании каузальной зависимости его текущих состояний от соответствующих обстоятельств (которые сами затем достигают объективирующего схватывания) – разные, хотя в обоих случаях взгляд в определённом смысле проходит через схему или, точнее, через соответствующий слой её наполненности.
Даже если это одно и то же состояние конкретной ситуации, предданное для этих различных схватываний, всё же снова происходит изменение направления взгляда на саму вещь как тождественный субстрат того или иного само-проявляющегося свойства или как субстрат состояний, текуще относящихся к тем или иным обстоятельствам.
Столько направлений единства предзадано в каузальной апперцепции схемы (т. е. направлений для возможных серий перцепций в функциональном отношении к сериям воспринимаемых обстоятельств), сколько есть множественности в том, как реальная вещь, единая материальная «субстанция», определима согласно свойствам, соответствующим самому схватываемому смыслу.
И вещь имеет эти свойства (реальные, субстанциальные свойства) в актуальности, если исполняющий опыт изначально проявляет их в вещных состояниях (или модусах отношений), зависимых от обстоятельств.
Более того, апперцепция вещи, как она установлена уже в каждой отдельной перцепции и серии перцепций, несёт в себе различные модусы определённости и неопределённости. Конечно, воспринятое входит в сознание как реальное данных состояний, но лишь как более или менее определённое. Однако способ, каким неопределённость может быть определена точнее, предуказывается формальной сущностью апперцепции вещи как таковой и, кроме того, особенностью текущей частной апперцепции, т. е. именно тем, что апперцепция вещи оставляет открытым в этой особенности.
д) Более точное определение, переопределение и отмена вещного опыта.
К универсальной сущности апперцепции вещи относится также то, что в ходе опытов, в которых текущая вещь всё более богато изначально проявляется, возникают также всё более богатые направления определённости, и в них могут устанавливаться всё новые пустые точки определимости.
Априори только в ходе продолжающихся изначально проявляющих опытов может быть показано, что есть текущая вещь. Тем самым (согласно уже указанному ранее) принципиально стоят рядом как возможности:
1) возможность всецело согласных опытов, которые лишь точнее определяют;
2) возможность частично согласных, частично несогласных опытов: т. е. опытов, которые определяют ту же вещь, но новыми и различными способами;
3) возможность, наконец, непримиримых расхождений, посредством которых показывается небытие вещи, которая прежде переживалась в согласии, или небытие вещи, определённой как «новая и иная» в своих частностях.
Но если вещь есть, то она есть как тождественное реальное нечто своих реальных свойств, и эти свойства суть, так сказать, лишь лучи её единого бытия. Именно как такую тождественность вещь полагается мотивированно каждым опытом, будь он даже несовершенным и оставляющим многое открытым, и легитимирующая сила мотивации растёт вместе с богатством изначальных проявлений, обнаруживающихся в ходе опыта.
Вещь постоянна в том, что она ведёт себя так-то и так-то при относящихся к ней обстоятельствах: реальность (или, что здесь то же самое, субстанциальность) и каузальность нераздельно принадлежат друг другу. Реальные свойства суть eo ipso каузальные.
Знать вещь, следовательно, означает знать из опыта, как она ведёт себя под давлением и ударом, при сгибании и разрыве, при нагревании и охлаждении и т. д., т. е. знать её поведение в связи её каузальностей: каких состояний вещь актуально достигает и как она остаётся той же самой на протяжении этих состояний.
Прослеживать эти связи и определять реальные свойства в научном мышлении на основе прогрессирующего опыта – такова задача физики (в широком смысле), которая, ведомая таким образом от самых непосредственных единств в иерархической последовательности опытов и того, что в них изначально проявляется, восходит ко всё более высоким единствам.
Объяснение трудных моментов и философские параллели.
1. Res extensa vs. Res cogitans: критика картезианского дуализма.
– У Декарта:
– Res extensa (протяженная субстанция) – материальный мир, подчиненный механическим законам, познаваемый через геометрию.
– Res cogitans (мыслящая субстанция) – сознание, непротяженное и свободное.
– У Гуссерля:
– Отвергает дуализм как «наивный», поскольку оба термина уже предполагают некритически принятую онтологию.
– Вместо этого анализирует, как вещи даны в сознании (феноменологическая редукция). Например, стол как res extensa – не готовый объект, а единство интенциональных актов (восприятия, памяти, ожидания).
– Параллель: Хайдеггер в «Бытии и времени» развивает эту критику, заменяя дуализм структурой «бытия-в-мире».
2. Ноэма и ноэзис: структура интенциональности.
– Ноэзис – акт сознания (напр., восприятие стола), всегда направленный на объект.
– Ноэма – объект как данный (напр., «стол в перспективе, с этой стороны»).
– Пример: Когда я вижу яблоко, ноэзис – это акт восприятия, а ноэма – яблоко как «красное, круглое, находящееся там».
– Важно: Ноэма не сам объект, а его смысл в сознании. Это перекликается с Брентано (интенциональность как признак психического), но Гуссерль углубляет анализ.
– Критика: Сартр в «Трансценденции Эго» спорит с гуссерлевской ноэмой, утверждая, что она излишне объективирует сознание.
3. Схема вещи: от Канта к Гуссерлю.
– У Канта: Схема – продукт воображения, связывающий категории (напр., причинность) с чувственными данными (напр., последовательность событий).
– У Гуссерля:
– Схема – чувственно-пространственный каркас вещи (напр., визуальная форма стола), который предшествует категориальному синтезу.
– Она не зависит от рассудка и раскрывается в горизонте восприятия (напр., невидимые стороны стола «со-даны» в акте видения).
– Различие: Для Канта схема – мост между рассудком и чувственностью, для Гуссерля – имманентная структура самого феномена.
– Параллель: Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» развивает идею «телесной схемы» как дорефлексивного единства тела и мира.
4. Каузальность и субстанциальность: феноменологический поворот .
– Аристотель: Сущность вещи (субстанция) раскрывается через её изменения (акциденции).
– Гуссерль:
– Реальность вещи – не «голая субстанция», а единство зависимостей (напр., стол проявляется через реакции на освещение, прикосновение и т.д.).
– Каузальность – не внешний закон, а структура опыта: вещь «ведет себя» определенным образом в определенных условиях.
– Пример: Упругость пружины – не скрытое свойство, а то, как она является в серии взаимодействий (сжатий, растяжений).
– Связь с наукой: Это предвосхищает Хайдеггера («подручное» как способ данности вещи) и Уайтхеда (процессуальность вместо субстанций).
5. Критика изоляции вещи: против наивного реализма.
– Наивный реализм: Вещи существуют «сами по себе», а сознание их пассивно отражает.
– Гуссерль:
– Вещь всегда дана в интенциональном акте (напр., один и тот же стол может быть дан как «мебель», «препятствие» или «воспоминание»).
– «Материальность» – не свойство вещи, а способ её конституирования в сознании через связи с другими феноменами (напр., стол связан с комнатой, гравитацией, историей его использования).
– Радикализация: У Мориса Мерло-Понти мир – это «плоть», где субъект и объект взаимопроникают.
– Полемика: Аналитическая философия (напр., Селларс) критикует Гуссерля за «миф данного», но феноменологи отвечают, что речь не о данных, а о способах явленности.
Вывод: новаторство Гуссерля
Гуссерль преобразует классические философские проблемы (субстанция, каузальность, восприятие), переводя их в плоскость конституирования смысла в сознании. Его критика изоляции вещи и акцент на интенциональности повлияли на:
– Хайдеггера (Dasein как бытие-в-мире),
– Сартра (отказ от трансцендентального Эго),
– Мерло-Понти (телесность как первичный опыт),
– даже когнитивные науки (теории воплощенного сознания).
Важно: Этот параграф демонстрирует гуссерлевский метод феноменологической редукции: отказ от «естественной установки» в пользу анализа того, как вещи конституируются в сознании.
Его метод – не отрицание реальности, но раскрытие её как феномена, что требует отказа от «естественной установки» в пользу рефлексии.
§ 16. Конституирование свойств вещи в множественных отношениях зависимости.Единство вещи в изменяющихся состояниях .
Как мы уже видели, единство вещи сохраняется во всех изменениях её состояний по отношению к реальным обстоятельствам (как актуальным, так и возможным) таким образом, что каждое изменение состояния (касающееся либо той же самой неизменной свойства, либо свойств, изменяющихся непрерывно или дискретно) происходит или может происходить однозначно в данном реальном контексте.
Пояснение: Здесь Гуссерль говорит о том, что вещь как единство своих свойств может меняться или оставаться неизменной в зависимости от обстоятельств. Это напоминает кантовскую "трансцендентальную апперцепцию", где единство сознания обеспечивает идентичность объекта в потоке восприятия.
Изменчивость реальных свойств.
Каждое реальное свойство изменчиво. Поэтому единства первичных проявлений (в их временной непрерывности) воспринимаются как фазы сохраняющегося единства длительности, зависящего от единства обстоятельств.
Пример: Железо плавится, меняя своё агрегатное состояние (что само является реальным свойством). Тело, движущееся к полюсу Земли, постепенно меняет свой вес.
Единство в потоке изменений.
Образование единства как тождества в потоке временных изменений не является исключительной особенностью вещи. Любое единство (даже не-субстанциальное, как простое единство длительности) априори допускает возможность либо постоянства, либо непрерывного изменения.
Пример: Чистое ощущение тона может меняться по интенсивности, оставаясь неизменным по высоте.
Иерархическая конституция свойств.
Свойства могут конституироваться на более высоких уровнях, образуя иерархии, где высшие единства проявляются через низшие и определяются посредством опытного мышления.
Связь с философией: Это перекликается с гегелевской диалектикой, где целое определяется через взаимодействие частей, но у Гуссерля акцент на феноменологическом конституировании, а не на логическом развитии.
Принцип координации данного.
Ранее мы пришли к принципу: "при схожих обстоятельствах – схожие следствия". Однако этот принцип требует уточнения, поскольку обстоятельства и следствия могут быть схематичными.
Проблема изменения свойств.
Если речь идет о свойствах низшего уровня (например, упругость пружины), то при схожих условиях мы ожидаем схожих изменений. Но если пружину нагреть докрасна, она теряет упругость – свойство изменяется, и теперь действует иная функциональная связь.
Ключевой момент: Вещь не просто меняет свойства, но эти изменения сами подчиняются правилам зависимости от обстоятельств.
Единство через изменения.
Серии изменений свойств, зависящие от изменений обстоятельств, вновь проявляют единство. Вещь зависит от обстоятельств, и в этом отношении она есть то, что она есть.
Аналогия: Это напоминает гуссерлевскую "горизонтальность" – вещь дана не изолированно, а в контексте возможных изменений.
Возможность спонтанных изменений.
Может ли вещь изменяться сама по себе? Наивное сознание допускает это, но научный подход исключает: "нет изменения без причины".
Критика: Гуссерль отмечает, что это не априорная необходимость. Теоретически вещь могла бы спонтанно потерять упругость или цвет, но опыт этого не подтверждает.
Внутренние и внешние обстоятельства.
Различаются:
1. Внешние – влияющие на вещь извне.
2. Внутренние – изменения, обусловленные самой вещью (например, распад молекулы).
Связь с наукой: Это предвосхищает различие между макро- и микроуровнями в физике.
Конституирование сложных вещей.
Вещи могут быть агрегатами (например, молекулы в теле). Их единство определяется:
– Физической связью (например, твёрдое тело).
– Химической связью (где части могут выделяться при изменении условий).
Пример: Железо не нагревается само по себе, а только под внешним воздействием.
Заключение.
Конституирование вещи в интуиции имеет слоистую структуру, начиная с простейших сенсорных схем и восходя к сложным каузальным зависимостям.
Приложение: Ограничение анализа твёрдыми телами.
Гуссерль специально рассматривает твёрдые тела, так как они:
1. Имеют устойчивую форму.
2. Легче воспринимаются (в отличие от жидкостей или газов).
3. Являются основой для конституирования более сложных материальных единств.
Пример: Воздух как среда становится заметен только при движении (ветер), тогда как твёрдые тела даны непосредственно.
Вывод: Феноменологический анализ начинается с наиболее очевидного – устойчивых, осязаемых вещей, – а затем переходит к более сложным формам материальности.
Важно: Этот параграф раскрывает гуссерлевскую концепцию конституирования вещи через её свойства и их зависимости от обстоятельств, с отсылками к Канту (единство апперцепции), Гегелю (целое и части) и научному каузальному мышлению.
§ 17. Материальность и субстанциальностьВ наших рассуждениях мы намеренно позволили всеобщему вещности (т. е. «реальности») выступить с большей силой по сравнению с тем, что относится к материальности как таковой – специфической характеристике протяжённой реальности. Это всеобщее – для которого, несомненно, лучше всего подходит термин «реальность» – называется субстанцией. (К сожалению, все эти философские выражения отягощены двусмысленностью и лишены глубинной прояснённости.) Однако здесь мы получили из интуиции твёрдое содержание сущности, чьё фундаментальное значение очевидно.
Чтобы отличить эти подлинные «реальности» от обычного, самого широкого смысла слова, куда включалось бы любое индивидуальное (или временное) сущее, мы будем говорить о субстанциальной реальности; и именно это следует понимать отныне, когда мы говорим просто о субстанциальности, субстанции или вещи. Соответственно, протяжённая субстанция должна считаться у нас лишь частным типом субстанции.
Мы уже говорили выше о роли протяжённости (телесности). Из этого ясно, что определения вроде места, фигуры и т. д., относящиеся к протяжённости, не являются субстанциальными свойствами. Напротив, они целиком и полностью суть каузальные свойства. По способу своей данности они не суть единства изначального проявления, а уже принадлежат схеме.
Это не мешает и им – то есть фигуре и месту вещи – зависеть от обстоятельств в отношении изменения и постоянства или быть познаваемыми в этой каузальной зависимости. В связи с этим, специфические определения протяжённости становятся изначальными проявлениями реальных свойств, характерных для вещи, от которых, в свою очередь, зависят функционально те свойства, что изначально проявляют себя в полноте схемы.
Так мы познаём в вещи твёрдость и текучесть, упругость и т. д. Например, реагировать на удар колебаниями – и, в зависимости от обстоятельств, колебаниями определённого рода и частоты – есть изначальное проявление упругости, притом определённой и своеобразной упругости, скажем, пружины часового механизма.
Эти свойства, как и другие, суть субстанциальные свойства; они принадлежат материальной вещи, которая протяжена в пространстве вместе с ними, как и со всеми своими субстанциальными свойствами, и которая имеет свою пространственную форму и своё место – последние же сами по себе не являются материальными свойствами.
Разбор сложных моментов и философские параллели:
1. «Вещность» vs. «Материальность».
– Вещность (Dinghaftigkeit) – у Гуссерля это категория, обозначающая объективность, устойчивое бытие вещи как единства свойств.
– Материальность – конкретное свойство вещи быть протяжённой (res extensa у Декарта).
– Связь с Кантом: У Канта вещь-в-себе (Ding an sich) непознаваема, а феноменальная вещь дана через формы чувственности (пространство и время). Гуссерль же говорит о схеме (структуре восприятия), где материальные свойства проявляются через каузальные связи.
2. Субстанция vs. Акциденция.
– Субстанция (у Аристотеля – ousia, у Спинозы – то, что «существует само по себе») здесь понимается как устойчивая реальность, в отличие от изменчивых свойств (акциденций).
– Протяжённость (как у Декарта) – лишь один из видов субстанции, но не сама субстанция.
3. «Изначальное проявление» (primordial manifestation).
– Это гуссерлевский термин, близкий к интенциональному переживанию в феноменологии.
– Например, упругость пружины дана не как абстрактное свойство, а через конкретное восприятие её колебаний.
4. Схема (Schema).
– Вероятно, отсылка к кантовской «схеме» как посреднику между категориями рассудка и чувственностью.











