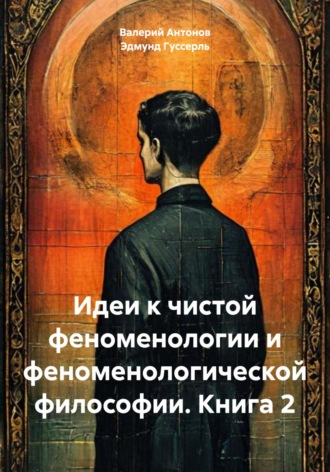
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
Вопрос теперь, однако, в том, достаточны ли мотивы для необходимого различения между субъективно обусловленной вещью и объективной вещью, мотивы, которые действительно представляются в солипсическом опыте, или должны ли они вообще быть там. Пока мы берём случаи, в которых изменения внешнего мира, симулированные для нас аномальным перцептивным органом, показываются как «видимости» свидетельством других органов, в той мере различие между «кажущимся» и тем, что есть на самом деле, всегда дано, даже если в отдельных случаях может оставаться нерешённым, что является видимостью, а что – действительностью. Но если мы предположим на время, что субъект всегда имел бы только нормальные восприятия и никогда не претерпевал бы модификации ни одного из своих органов, или, с другой стороны, претерпевал бы модификацию, но такую, которая не допускала бы никакой возможности коррекции (потеря всего поля осязания или психические заболевания, которые изменяют весь типичный характер восприятия), тогда мотивы различия между «видимостью» и «действительностью», предполагавшиеся до сих пор, были бы устранены, и уровень «объективной природы» не мог бы быть достигнут таким субъектом. Но опасность, что при предполагаемых условиях конституирование объективной природы не могло бы быть достигнуто, устраняется, как только мы снимаем абстракцию, которую мы сохраняли до сих пор, и принимаем во внимание условия, при которых конституирование происходит де-факто: а именно, что испытывающий субъект, по правде, не солипсический субъект, а вместо этого один среди многих.
f) Переход от солипсического к интерсубъективному опыту
Давайте рассмотрим немного подробнее возможность солипсического мира, которую мы до сих пор предполагали. Я (каждый должен подставить здесь свое собственное «Я») переживал бы мир, и он был бы точно таким же, как тот, который я переживаю на самом деле; всё было бы одинаково, с единственным исключением: в моем поле опыта не было бы Тел, которые я мог бы воспринимать как Тела других психических субъектов. Если эта апперцептивная сфера отсутствует, то она не определяет мои восприятия вещей, и поскольку в моем реальном опыте она обычно их определяет, то её влияние отсутствовало бы в моей теперь измененной картине мира. Более того, у меня остаются те же самые многообразия ощущений; и те же самые реальные вещи с теми же свойствами являются мне, и если всё гармонично, они проявляются как «действительно существующие», а в случае расхождений известного рода – как «иные» или даже как несуществующие. Казалось бы, ничего существенного не изменилось; кажется, отсутствует лишь фрагмент моего мира опыта – мир живых существ, а также группа каузальностей, связанных с ним в мировом контексте.
Однако представим, что в определенный момент времени, со-конституированного вместе с солипсическим миром, в моей сфере опыта внезапно появляются Тела – вещи, понимаемые и воспринимаемые как человеческие Тела. Теперь внезапно и впервые для меня существуют другие люди, с которыми я могу вступить в коммуникацию. И я прихожу к взаимопониманию с ними относительно вещей, которые существуют для нас общих в этом новом временном отрезке.
Тут обнаруживается нечто весьма примечательное: обширные комплексы утверждений о вещах, которые я делал в более ранние периоды времени на основе прежнего опыта – опыта, совершенно согласованного во всех отношениях, – не подтверждаются моими новыми собеседниками. И не потому, что у них просто нет этого опыта (ведь не обязательно, чтобы они видели всё, что видел я, и наоборот), а потому, что он радикально противоречит тому, что другие переживают в опыте, который, как мы можем предположить, необходимо гармоничен и постоянно подтверждается.
Что же тогда можно сказать о действительности, явленной в первый период времени? И что можно сказать обо мне самом, эмпирическом субъекте этой действительности? Ответ очевиден. Когда я сообщаю своим собеседникам о своих прежних переживаниях, и они осознают, насколько те противоречат их миру – миру, конституированному интерсубъективно и постоянно подтверждаемому через гармоничный обмен опытом, – тогда я становлюсь для них интересным патологическим объектом, и они называют мою действительность, столь прекрасно явленную мне, галлюцинацией человека, который до этого момента был душевнобольным.
Можно представить себе совершенство явленности моего солипсического мира и довести это совершенство до любой степени, но описанное положение дел как априорное, идеальная возможность которого не подлежит сомнению, от этого нисколько не изменится.
Теперь необходимо пролить свет на одну проблему: каким образом отношение к множеству людей, взаимодействующих друг с другом, входит в восприятие вещи и становится конститутивным для восприятия вещи как «объективной и действительной»? Это «как» сначала кажется весьма загадочным, потому что, когда мы осуществляем восприятие вещи, мы, казалось бы, не всегда сополагаем множество других людей и, тем более, не сополагаем их как тех, кого, так сказать, следует «призывать» в этот процесс.
Можно также задаться вопросом, не попадаем ли мы здесь в круг, ведь восприятие другого человека, несомненно, предполагает восприятие его Тела, а следовательно, и восприятие вещи. Есть только один способ решить эту проблему – путь, предписанный нам феноменологией. Мы должны исследовать само восприятие вещи там, где оно является опытом «объективно действительной» вещи, и мы должны исследовать опыт, который еще не является явленным, но нуждается в явленности, чтобы выяснить, что в нем самом требует явленности, какие компоненты неисполненных интенций он в себе содержит.
(Здесь следует отметить, что мы, по сути, описали конституирование вещи неполно, ограничившись исследованием лишь многообразий ощущений, абрисов, схем и, в целом, визуальных вещей на всех их уровнях. Мы должны преодолеть в решающем пункте ту самозабвенность Эго, о которой упоминали ранее.)
Каждая вещь моего опыта принадлежит к моему «окружению», и это означает, прежде всего, что мое Тело является его частью именно как Тело. Дело не в том, что здесь есть какая-то сущностная необходимость. Именно это и показал наш солипсический мысленный эксперимент. Строго говоря, solus ipse (единственный я) не осознает Объективного Тела в полном и собственном смысле, даже если solus ipse обладает феноменом своего Тела и соответствующей системой многообразий опыта и знает их так же совершенно, как и социальный человек. Другими словами, solus ipse не вполне заслуживает своего названия. Абстракция, которую мы провели по теоретическим соображениям, не дает нам изолированного человека, изолированной человеческой личности.
Очевидно, эта абстракция не состоит в том, что мы устраиваем массовое убийство людей и животных нашего окружающего мира, оставляя в живых лишь один человеческий субъект. В этом случае оставшийся субъект, хотя и единственный, всё равно оставался бы человеческим субъектом, то есть интерсубъективным объектом, продолжающим воспринимать и полагать себя таковым. Напротив, субъект, которого мы конструируем, ничего не знает о человеческом окружении, ничего не знает о реальности или даже просто о возможности «других» Тел, понимаемых в смысле человеческого восприятия, и потому не знает ничего о своем собственном Теле как о чем-то, что может быть понято другими.
Этот субъект не знает, что другие могут созерцать тот же самый мир, который просто предстает перед разными субъектами по-разному, так что явления всегда относительны к «их» Телам и т. д.
Ясно, что восприятие Тела играет особую роль для интерсубъективности, в рамках которой все объекты воспринимаются «объективно» как вещи в едином объективном времени и едином объективном пространстве единого объективного мира. (В любом случае явленность любой объективности требует отношения к восприятию множества субъектов, находящихся во взаимопонимании.)
Вещь, которая конституируется для индивидуального субъекта в упорядоченных многообразиях гармоничного опыта и которая, как единая для чувственного созерцания, непрерывно противостоит Эго в ходе восприятия, приобретает таким образом характер лишь «субъективного явления» «объективно реальной» вещи. Каждый из субъектов, интерсубъективно связанных взаимопониманием относительно одного и того же мира и, в его рамках, одних и тех же вещей, имеет свои собственные восприятия этих вещей – свои собственные перцептивные явления, и в них он находит единство в явлениях, которое само является лишь явлением в более высоком смысле, с предикатами явления, которые не могут без дальнейших условий считаться предикатами являющейся «истинной вещи».
Таким образом, мы приходим здесь, рассматривая взаимопонимание, к тому же самому различию, которое уже продемонстрировали как возможное на солипсическом уровне. «Истинная вещь» – это объект, сохраняющий свою идентичность в многообразиях явлений, принадлежащих множеству субъектов, и, конкретнее, это созерцаемый объект, соотнесенный с сообществом нормальных субъектов, или, если абстрагироваться от этой соотнесенности, это физикалистская вещь, определяемая логико-математически.
Эта физикалистская вещь, очевидно, одна и та же, конституируется ли она солипсически или интерсубъективно. Ведь логическая объективность eo ipso является также объективностью в интерсубъективном смысле. То, что познающий субъект узнает в логической объективности (следовательно, таким образом, что это не содержит индекса зависимости её истинностного содержания от субъекта или чего-либо субъективного), может быть так же познано любым другим познающим субъектом, если он выполняет условия, которые любой субъект должен выполнить, чтобы познать такие объекты.
То есть он должен переживать вещи и те же самые вещи, и если он хочет познать эту идентичность, он должен находиться в отношении эмпатии к другим познающим субъектам, а для этого он должен обладать телесностью и принадлежать к тому же миру и т. д.
Согласно самому смыслу восприятия, как и опыта вообще, в них присутствуют вещи, которые должны быть определены в себе и отличены от всех других вещей. А согласно смыслу опытного суждения, оно претендует на объективную значимость. Если вещь определена в себе и отлична от любой другой, то она должна допускать сужденческое, то есть предикативное, определение таким образом, что её отличие от всех других вещей становится явным.
Вещь, данная в восприятии и опыте, в соответствии с самим смыслом восприятия, изначально является пространственно-временной, обладающей формой и длительностью, а также имеющей положение в пространстве и времени. Поэтому мы должны различать между являющейся формой и формой самой по себе, между являющейся пространственной величиной, являющимся местоположением и величиной и местоположением самими по себе.
Всё, что мы переживаем в вещи, даже форма, отсылает к переживающему субъекту. Всё это является в изменяющихся аспектах, в изменении которых вещи присутствуют также как чувственно измененные. Кроме того, пространство между вещами и форма этого пространства являются в разных аспектах в зависимости от субъективных обстоятельств. Однако всегда и необходимо одно и то же пространство «является» как форма всех возможных вещей, форма, которая не может быть умножена или изменена.
У каждого субъекта есть его «пространство ориентации», его «здесь» и его возможное «там», причем это «там» определяется согласно системе направлений: право-лево, верх-низ, перед-зад. Но основная форма идентификации интерсубъективных данностей чувственного содержания такова, что они необходимо принадлежат одной и той же системе местоположений, чья объективность проявляется в том, что каждое «здесь» может быть отождествлено с каждым относительным «там» относительно каждого нового «здесь», возникающего в результате «перемещения» субъекта, а значит, и относительно каждого «здесь» с точки зрения другого субъекта.
Это идеальная необходимость, и она конституирует объективную систему местоположений, которая не может быть схвачена зрением глаз, но только пониманием; то есть она «видима» в высшем виде интуиции, основанной на изменении местоположения и эмпатии. Таким образом решается проблема «формы интуиции» и пространственной интуиции. Дело не в чувствах, хотя в другом отношении это так. Первичное интуитивное пространство дано чувственно, но это еще не само пространство. Объективное пространство не чувственно, хотя оно всё же интуируется на более высоком уровне, и оно дается посредством идентификации в изменении ориентации, но исключительно той, которую субъект свободно осуществляет сам.
Ориентированное пространство (а вместе с ним, eo ipso, объективное пространство) и все являющиеся пространственные формы уже допускают идеализацию; они могут быть схвачены в геометрической чистоте и определены «точно».
Объективная форма объективна как упорядоченная в объективном пространстве. Всё остальное в вещи, что объективно (отвлечено от всех релятивизмов), таково через связь с фундаментально объективным, а именно пространством, временем, движением. Реальные свойства проявляются как реальные субстанциально-каузальные единства в движении и деформации пространственной формы. Это механические свойства, выражающие причинно-закономерные зависимости пространственных определений тел.
Вещь всегда есть форма в ситуации. Однако форма в каждой ситуации квалифицирована. Качества – это то, что наполняет, они распространяются по поверхности и через телесность формы. Однако квалификации простираются от вещей в пустое пространство: лучи света, излучения тепла и т. д. Это означает, что вещные качества обусловливают качества и качественные изменения в других вещах, и делают это таким образом, что эффект является постоянной функцией ситуации: каждому изменению ситуации соответствует изменение эффекта.
Благодаря такой подчиненности пространственным отношениям, которые могут быть определены точно, даже чувственные качества становятся доступными точному определению. Таким образом, мы приходим к пониманию физикалистского взгляда на мир или структуры мира, то есть к пониманию метода физики как метода, который следует смыслу интерсубъективно-объективно (то есть нерелятивного и тем самым сразу интерсубъективного) определяемого чувственного мира.
g) Более точная характеристика физикалистской вещи
«Физикалистская природа», к которой мы теперь подошли, предстает в соответствии с нашими рассуждениями следующим образом: сама вещь в себе состоит из непрерывно или дискретно заполненного пространства в состояниях движения, называемых формами энергии. То, что заполняет пространство, поддается определенным группам дифференциальных уравнений и соответствует фундаментальным законам физики. Однако здесь нет чувственных качеств. А это значит, что здесь вообще нет никаких качеств. Ведь качество заполняющего пространство есть чувственное качество. Но как же тогда мыслимо заполненное пространство без качества?
Приписывать действительность являющимся вещам с их чувственными качествами в себе – невозможно, как совершенно справедливо утверждают естествоиспытатели. Ведь чувственные качества меняются в зависимости от типа и состояния органов чувств; они зависят от органов чувств и, более широко, от Тела и общего состояния воспринимающего субъекта. Оказывается, что истинные физические факты, соответствующие качественным различиям красного и зеленого, теплого и холодного, возникают без качественного перехода как чисто количественные различия в одной и той же области – например, температура, волны в эфире и т. д.
Следует ли говорить, что Бог видит вещи такими, каковы они в себе, а мы видим их через наши органы чувств, которые подобны искажающим очкам? Что вещи суть заполненное пространство с абсолютным качеством, но мы просто ничего об этом не знаем? Но если вещи, являющиеся нам так, как они нам являются, – те же самые, что являются Богу так, как они ему являются, тогда между Богом и нами должна быть возможна взаимопонимающая связь – подобно тому, как между разными людьми только через взаимопонимание возникает возможность узнать, что вещи, видимые одним, те же, что видимы другим. Но как тогда мыслимо отождествление, если не в том смысле, что предполагаемый абсолютный дух видит вещи тоже именно через чувственные явления, которые, в свою очередь, должны быть взаимозаменимы в понимании – хотя бы одностороннем, как это происходит с явлениями, общими для нас, людей? А если не так, тогда Бог был бы слеп к цветам и т. д., а люди – к его качествам. Но есть ли вообще смысл спорить о том, какие качества истинны? Новые качества снова оказались бы вторичными и были бы устранены физикой, которая должна быть единой для всех, если вещи одни и те же. Очевидно, абсолютный дух тоже должен был бы обладать Телом, чтобы было возможно взаимопонимание, а значит, и зависимость от органов чувств тоже должна была бы присутствовать.
В итоге мы должны правильно понять смысл различия между вторичными и первичными качествами и можем считать необъективность первых лишь в том смысле, что они никоим образом не выходят за пределы относительности явлений – даже так, как мы легко упускаем из виду, когда спонтанно мыслим себя нормально чувствующими в мире существ с нормальной чувствительностью. Главная черта этой относительности – зависимость от субъекта. Однако здесь важно отметить различие: субъекты, в целом разделяющие общий мир вещей, к которым они действительно относятся (а значит, могут относиться через явления, как того требует вещное бытие), в принципе могут быть относительно «слепы» к цвету, звуку и т. д. – то есть к отдельным чувствам, дающим свои особые виды чувственных качеств. Чувства могут быть и совершенно иными, если они делают возможным общее понимание и конституируют общую природу как являющуюся. Но в принципе субъекты не могут быть слепы ко всем чувствам и, следовательно, сразу к пространству, движению, энергии. Иначе для них не существовало бы мира вещей; во всяком случае, это был бы не тот же мир, что наш – именно пространственный мир, мир природы.
Природа – это интерсубъективная реальность, реальность не только для меня и моих текущих спутников, но для нас и для всех, кто может взаимодействовать с нами и прийти к взаимопониманию относительно вещей и других людей. Всегда есть возможность, что в эту связь войдут новые духи; но они должны сделать это посредством своих Тел, которые репрезентируются через возможные явления в нашем сознании и через соответствующие – в их.
Вещь есть правило возможных явлений. Это значит, что вещь – реальность как единство многообразия явлений, связанных по правилам. Причем это единство интерсубъективно. Оно есть единство состояний; вещь обладает своими реальными свойствами, и каждому моменту соответствует действенное состояние (ибо свойства выражают способности; они суть каузальные свойства, относящиеся к «если-то»). Однако если для прежнего рассмотрения, опирающегося на непосредственный опыт, состояние тождественно пространству, заполненному чувственными качествами (схема), – пространству, которое может быть интерсубъективным единством лишь относительно совокупности нормальных «одинаково чувствующих» субъектов, – то, с другой стороны, реальная возможность и действительность субъектов с разными чувственными способностями и знание зависимости чувственных качеств от физиологических процессов у каждого индивида ведут к рассмотрению этой зависимости как нового измерения относительности и к мысленному конструированию чисто физикалистской вещи. Тогда одному и тому же объективно-физикалистскому состоянию вещи соответствуют множественные «заполненные пространства», относящиеся к разным чувственным способностям и индивидуальным чувственным отклонениям. Физикалистская вещь интерсубъективно обща в том смысле, что она значима для всех индивидов, находящихся в возможном общении с нами. Объективное определение определяет вещь через то, что принадлежит ей и должно принадлежать, если она должна являться мне или кому-либо в общении со мной и считаться той же самой для каждого члена коммуницирующего сообщества – даже для меня при всех возможных модификациях моей чувствительности. Определения пространства и времени общи, как общ и закономерный порядок, который в силу своих понятий, относящихся к «физикалистской вещи», есть единое правило для всех явлений интерсубъективного сообщества, конституирующих одну и ту же вещь и долженствующих конституировать ее в рациональном взаимопонимании. Лишь из явлений (и интерсубъективной связи) мы извлекаем смысл того, что есть вещь в «объективной действительности» – то есть в действительности, которая является и является всем коммуницирующим субъектам и которая идентифицируема через интерсубъективное отождествление.
Объективно реальное находится не в моем «пространстве» или чьем-либо еще как «феномен» («феноменальное пространство»), но существует в объективном пространстве, которое есть формальное единство отождествления среди меняющихся качеств. Если для моих пространственных феноменов верно, что они могут даваться только с чувственными качествами, то для объективного пространства верно, что оно не может даваться с чувственными качествами, но может являться лишь внутри субъективных пространств, обладающих таковыми. Это справедливо и для solus ipse, и для пространства, уже конституированного в нем как объективного, хотя еще не как интерсубъективного. (Таким образом, интерсубъективная вещь есть «объективная» пространственная форма с «объективными» качествами – физикалистскими.) Чистое пространство (чисто объективная пространственная форма) возникает из моего являющегося пространства не через абстракцию, а через объективацию, которая принимает за «явление» любую чувственно являющуюся пространственную форму, наделенную чувственными качествами, и полагает ее в многообразиях явлений, принадлежащих не индивидуальному сознанию, а общественному сознанию как совокупной группе возможных явлений, построенной из индивидуальных групп. Каждый субъект обладает тотальностью пространства и имеет определенные пространственные формы, но в интерсубъективности они суть явления.
В принципе, вещь дана и может быть дана только через явления, содержание которых может варьироваться в зависимости от субъекта. Это содержание (являющаяся вещь именно так, как она является – как красная, тёплая и т. д.) есть то, что оно есть, как явление для актуального субъекта или для возможного субъекта, фактически связанного с первым. Мы оказываемся отброшенными к множественности актуальных субъектов и, в связи с ними, ещё возможных субъектов, которые созерцают вещь, осуществляют опыт и т. д., в котором, как коррелят, нечто являющееся как таковое приходит в сознание в изменчивом модусе с моментами явления, такими как красное, тёплое, сладкое, круглое и т. д. Эти субъекты находятся в отношении эмпатии и, несмотря на вариативность данностей явлений, могут интерсубъективно удостовериться в тождестве того, что в них является.
Таким образом, в принципе вещь есть нечто интерсубъективно тождественное, но при этом так, что она не обладает никаким чувственно-интуитивным содержанием, которое могло бы быть дано как интерсубъективно тождественное. Вместо этого она есть лишь пустое тождественное нечто как коррелят идентификации, возможной согласно правилам опытной логики и обоснованной через них – идентификации того, что является в изменчивых «явлениях» с их различным содержанием, осуществляемой субъектами, находящимися в интерсубъективной связи, вместе с соответствующими актами, адекватными явлению и опытному логическому мышлению.
В физике как чистом естествознании, изучающем интерсубъективно-объективную вещь, существующую «в себе», вещь определяется объективно как пустое нечто, определяемое через интерсубъективно конституированные формы пространства и времени, а также через «первичные качества», относящиеся к пространству и времени. Все вторичные качества, да и вообще всё, что может быть дано интуитивно, включая все интуитивные пространственные и временные формы, которые совершенно немыслимы без вторичного наполнения, все различия в ориентации и т. д. – всё это туда не относится.
h) Возможность конституирования «объективной природы» на уровне интерсубъективного опыта.
Давайте теперь аналогично, как мы это делали для солипсистического уровня, исследуем, какие условия должны быть выполнены (и даже неизбежно выполняются) для того, чтобы на интерсубъективном уровне опыта возникло конституирование «объективной» природы. Мы начали с фактически данных отношений: обнаружилось, что индивидуальные различия выделяются на фоне фундаментального множества общих переживаний и приводят к различению между определениями, принадлежащими самой вещи «как таковой», и теми, что обусловлены лишь субъективно. Теперь же необходимо априори построить и другие условия.
Мы можем представить себе человеческий мир, в котором не существовало бы болезней, где не возникали бы иллюзии, галлюцинации и тому подобное. Мы можем далее предположить, что все люди, взаимодействующие друг с другом, воспринимают мир совершенно одинаково (абстрагируясь от неизбежных различий в перспективе). В таком случае, считались бы вещи с их вторичными качествами предельной Объективностью? Или же было бы осознано, что такое положение дел случайно, а не необходимо?











