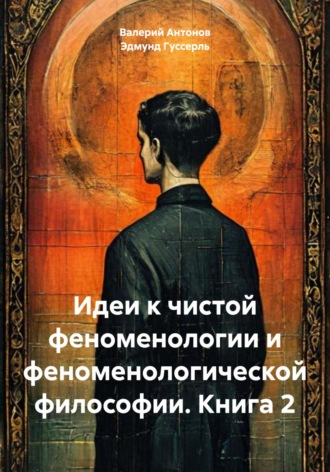
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
Для начала возьмём случай, когда нарушено только одно чувство, один орган чувств оказывается в аномальном состоянии, в то время как другие чувства продолжают функционировать нормально. Исключив нарушенное чувство, мы имеем согласованное по всему миро-восприятие, и до момента нарушения мы имеем то же самое для этого чувства.
Соответствующий орган чувств может быть воспринят другими, нормально функционирующими, так же как и особые вещные причинные обстоятельства, которым он подвержен. Например, я вижу, как моя рука обожжена, или вижу, что моя рука опухла, и т. д. Более того, в поле ощущений соответствующего органа будут возникать аномальные ощущения, то есть исходящие со стороны эстезиологической Телесности. Изменённые данные поля осязания всё ещё апперцепируются согласно явлениям, но именно как аномалии, в отличие от согласованных явлений нормально функционирующей чувствительности, в которой те же вещи даны в отношении равно согласованных и нормально являющихся частей Тела и в отношении всего Тела. Изменение соответствующего органа чувств обусловливает в этом отношении группу аномальных данностей вещи. Тем самым я испытываю: это та же самая вещь, которая дана – изменённым образом повреждённой рукой, нормальным образом здоровой. Согласованность не отменяется полностью; появляется нечто подобное, просто «окрашенное» иначе для руки, которая кажется такой-то, то есть которая дана другими чувствами как таковая. Короче говоря, для органов чувств, изменённых определённым образом, все вещи появляются соответствующим образом, и эта изменённая данность отсылает к нормальной. В пределах области субъективных перцептивных условий также возникает «оптимум» явления (который может – с исцелением изначально повреждённого органа или использованием искусственных вспомогательных средств – только появиться впоследствии в противоположность прежнему «нормальному» восприятию).
Конституирование природы субъектом, конечно, должно быть осуществлено таким образом, что сначала конституируется нормально именно природа с Телом, в пределах открытого горизонта возможного опыта дальнейших свойств вещей и Тела. Нормальное конституирование – это то, которое конституирует первую реальность мира и Тела, реальность, которая должна быть конституирована, чтобы сделать возможным тем самым конституирование апперцептивных трансформаций именно как трансформаций, как включающих «аномальные» обстоятельства опыта, принимая во внимание реальность высших слоёв как новые отношения зависимости.
Система причинности, в которую Тело вплетено в нормальной апперцепции, такова, что Тело, несмотря на все изменения, которые оно претерпевает, остаётся в пределах тождества типа. Изменения Тела как системы перцептивных органов – это свободные движения этого Тела, и органы могут без принуждения снова вернуться в то же базовое положение. Они при этом не изменяются так, чтобы модифицировать тип чувствительности; они всегда могут выполнить то же самое и всегда тем же способом: а именно, для конституирования внешнего опыта. (Точно так же существует нормальная практика добровольного схватывания и воздействия на чувственный мир.) «Чувствительность» здесь относится к объективному: нормальным образом я должен быть способен схватить покой именно как покой, неизменность как неизменность, и в этом все чувства должны согласовываться.
Аномалии возникают, когда реально-причинные изменения Тела сначала нарушают нормальную функцию отдельных органов как перцептивных органов. Например, палец обожжён, и это изменение физического Тела (пальца как материального) имеет психофизическое следствие, что трогаемое тело в своём вещном содержании как трогаемое оказывается наделённым совершенно иными свойствами, чем прежде, и это применимо к каждому телу, трогаемому этим пальцем. В нашем примере – повреждение руки – возможность конституирования вещи сохраняется. Но у нас две руки, и вся поверхность Тела служит как осязательная поверхность, и само Тело как система осязательных органов. Все они обеспечивают осязательные свойства, только в разной степени совершенства и также, можно сказать, с разными «окрасками». По крайней мере, две руки могут заменять друг друга и давать существенно подобные «образы». Но в любом случае то же самое свойство вещи конституируется в отличие от различий в тактильных образах.
Но что, если бы осязание было полностью нарушено или претерпело тотальное патологическое изменение? Затем, что, если бы оба глаза были больны и давали образы, изменённые существенным образом, образы, в которых вещи появлялись бы как изменённые, с изменёнными сенсорными качествами? С другими органами, конечно, я не вижу и не схватываю цвета, специфически визуальные качества.
Тем не менее, тождество вещи сохраняется – в смысле осязания – и, кроме того, сохраняется отношение визуальных «образов» к той же вещи. Координация чувств, даже если изменённым образом, остаётся сохранённой (иначе я бы, например, имел цветные пятна в поле ощущений, но не явления вещей). Это всё та же вещь, которую я трогаю и которую вижу. То, что пространственные формы не изменились и что нечёткость – это просто субъективная модификация явлений, подобная нормальному видению, но без надлежащей аккомодации, обусловлено осязанием и прежними отрезками визуального восприятия до патологического изменения. Не то чтобы осязание как таковое имеет приоритет. Но вещи принадлежит её оптимальное конститутивное содержание, к которому все другие данные интенционально отсылают; и если бы зрение с самого начала давало только размытые контуры, в то время как осязание обеспечивало бы чёткие и более тонкие различия, то увиденная форма действительно «совпадала» бы с осязаемой, но форма как осязаемая приобрела бы приоритет. Говоря точнее: сама вещь не имеет двух форм, которые накладываются, а вместо этого одну форму (и так же одну поверхность), которую можно и трогать, и видеть. В идеале каждое чувство может давать те же данные и делать это одинаково хорошо, но де-факто одно чувство часто обеспечивает больше, чем другое, и хорошая пара очков может преобразовать моё хроническое и привычное размытое зрение в настолько хорошее, что зрение достигает приоритета.
Конечно, цвет – это не качество, которое даётся как то же самое посредством нескольких чувств в разных модусах явления. Если нормальные условия освещения (дневной свет и т. д.) отсутствуют или если я полностью слеп, то для меня наступает ночь. Я ничего не вижу, всё, что у меня есть в моём зрительном поле, – это темнота. То же самое верно, если я закрываю глаза или прикрываю их. Будет сказано, что объекты всё ещё имеют свой цвет, но я их не вижу. Я не вижу их, но они не перестают существовать, и я действительно могу воспринимать их на ощупь. Посредством осязания я всегда перцептивно нахожусь в мире, я могу ориентироваться в нём и могу схватить и узнать всё, что хочу. Но я также могу видеть (визуально мир не дан непрерывно; это, скорее, привилегия осязания), и это те же самые вещи, которые имеют цвет, даже если я их точно не вижу, потому что, если мне ничего не мешает, я могу легко пойти туда, пока не увижу, или, возможно, просто поднять веки, повернуть голову, сфокусировать взгляд и т. д. В этом осязание всегда играет свою роль, так как оно, очевидно, привилегировано среди участников конституирования вещи.
Наступила ночь, все вещи сохраняют свой цвет, но теперь постоянно ночь, света больше нет – может ли такое сознание возникнуть для меня, как солипсического субъекта, если я ослеп, например, от удара по глазам? Или это сознание, которое более вероятно мотивировано: есть день и ночь, как прежде, но я больше не вижу? Это зависит от апперцепции соответствующих объективных и субъективных перцептивных обстоятельств как таковых. В любом случае остаётся один факт: у меня всё ещё есть глаза, что говорит мне осязание, но я больше не вижу ими. Для нормальных людей вещи не конституируются как вещи путём построения их из увиденных и потроганных вещей. Есть одна и та же вещь вместе со своими свойствами, некоторые из которых преимущественно или исключительно (как, например, цвета и их различия) схватываются зрением, другие – осязанием. Вещь не разрывается двумя группами явлений; напротив, она конституируется в единой апперцепции. Визуальность не предлагает никаких комплексов свойств, которые можно было бы убрать, как если бы сама вещь имела в себе визуальный элемент как нечто, что она может приобрести или потерять. Нет смысла приписывать каждому чувству его комплексы свойств как отдельные компоненты вещи, так же как нет смысла утверждать, что «первичные» свойства каким-то образом удваиваются, когда схватываются разными чувствами. Но цвет, который действительно представляется как нечто самой вещи, как конститутивное свойство, дан перцептивно именно только в видении. Немыслимо, чтобы он появлялся как цвет посредством осязания. Быть отражающей поверхностью, сиять – это также видимые свойства. Но видимой яркости соответствует осязаемая гладкость, и разве это не одно и то же в самой вещи? Таким образом, цвет мог бы иметь параллель в сфере тактильных явлений, мог бы иметь точно параллельные ряды различий, соответствующие параллельным рядам изменений при подобных обстоятельствах. В этом случае здесь имело бы место то же самое, что происходит с первичными свойствами. Тогда мы сказали бы: «То, что появляется определённым образом только для зрения, появлялось бы параллельным образом и для осязания, в соответствующем для осязания виде». Но фактически это не имеет места для конститутивных явлений чувственных вещей (включая вещи восприятия). Цвет видим и только видим, и всё же он принадлежит вещи; следовательно, должно быть мыслимо, что любое чувство, которое вообще позволяет вещи появляться оригинально, делало бы это и для каждого свойства этой вещи. Цвет – это цвет пространственной формы, так же как гладкость – это гладкость пространственной формы; цвет находится именно там, где гладкость. Таким образом, можно было бы объявить это идеальным требованием для каждого чувства: в той мере, в какой оно претендует на то, чтобы давать вещь в оригинале, должна существовать идеальная возможность рядов явлений этого чувства, в которых каждое конститутивное свойство вещи приходило бы к оригинальной данности.
С другой стороны, нам нужно рассмотреть, возможно ли там, где эта идеально возможная коррекция посредством других чувств не существует, апперцепция: вещи «теряют свой цвет». Действительно, с определённым оправданием говорят: «Цвет изменяется вместе с освещением и исчезает, когда наступает ночь». Цвет исчезает в сумерках, переходит в «бесцветность», но тогда исчезает не только цвет вещей, но и сами вещи становятся всё более неотчётливыми, пока, наконец, не перестают быть видимыми вовсе. Очевидно, мы должны при этом различать цвет-ощущение (в обобщённом смысле), который перетекает в черноту, и собственный цвет вещи, который фактически исчезает для нас.
Пока вещь «конституирована для меня», пока для меня остаётся открытой возможность (способность) испытывать свойства вещи и, в частности, испытывать цвета при опытных обстоятельствах, которые принадлежат содержанию конститутивной апперцепции, тогда я правомерно сужу, что вещи окрашены, и делаю это, мотивированный либо апперцепцией самой вещи, либо опосредованно апперцепированными связями, которые прикреплены к другим испытанным вещам. В этом случае мне не нужно в данный момент видеть цвет вещи или видеть что-либо вообще. (Существенно, что Тело со-испытывается как функционирующее в восприятии. То, что вещи в своём «что» причинно воздействуют в восприятии на Тело и его поражённые органы, и что ощущение и т. д. связано с ними в психофизической обусловленности – всё это также принадлежит сюда конститутивно, следовательно, совершенно очевидно. Тем не менее, возникают аномалии.) Аномалии как таковые могут, следовательно, возникать только в этой форме, а именно, что нормальный мир остаётся конститутивно сохранённым, то есть испытанным, остальными перцептивными органами, теми, которые, функционируя взаимно друг для друга как таковые органы, продолжают давать нам опыт нормальным образом. С другой стороны, аномальный орган и причинность, которая его изменила, также принадлежат, благодаря этим другим чувствам, к нормально данному миру. Но аномальный орган теряет вместе со своей нормальной формой свою нормальную психофизическую обусловленность, и замещается новая. Все вещи, воспринимаемые таким органом, появляются в других аспектах, не нормальных. «Повреждённый» или больной орган в своём функционировании в восприятии вызывает изменённые явления вещей. Или, скорее, вещи не таковы, какими они тогда кажутся; они появляются, возможно, как изменённые вещи появлялись бы нормально, но это лишь видимость. Это регулярное психофизически-обусловленное следствие болезни органа. Так что же мир приобретает благодаря таким опытам? Материальный мир остаётся испытанным миром. Он представляется таким, какой он есть, если Телесность нормальна; но если Телесность аномальна, тогда он дан в аномальных явлениях (но это нормальные чувственные вещи или, более ясно выраженные, фантомы). Следовательно, это имеет место, если испытывающий субъект в пределах устойчивой системы нормальных, или, что то же самое, непрерывных, мир-конституирующих опытов обнаруживает аномальную часть Тела и тем самым сталкивается с её «непригодностью», «бесполезностью» или сниженной полезностью для «правомерных» опытных функций, или если субъект испытывает в ней свой собственный аномальный тип психофизических обусловленностей. Тогда может также быть опыт «возвращения к здоровью», аномалии как временной (как в случае, когда получают резкий удар) и т. д. Если функция органа нарушена, или если он сам по себе изменился аномально, скажем, «патологически», без того, чтобы субъект что-либо знал об этом, тогда субъект, очевидно, будет испытывать в «опыте посредством этого органа» изменённые вещности, при условии, что новые сенсорные данные могут быть аппрехендированы как феноменальные чувственные вещи, полностью аналогичные нормально мотивированным, и фактически аппрехендируются соответственно. Здоровые органы чувств в этом случае представляют противоречивые «отчёты». Чувства конфликтуют друг с другом, но этот конфликт может быть разрешён ввиду того, что именно впоследствии орган должен быть отвергнут как аномальный. Все другие чувства вместе обеспечивают гармонично развивающийся мир, в то время как отвергнутое чувство, то, которое не согласуется с ходом прежнего опыта, требует всеобщего и немотивированного изменения мира, чего избегают в случае отчётов остальных чувств, если они имеют нормальную значимость. Очевидно, конфликт может оставаться полностью неразрешённым, потому что возможно, что никакое опытное предпочтение не отдаётся одной стороне (примечание: пока мы рассматриваем испытывающего субъекта как солипсического).
Уже для солипсического субъекта также является делом опыта, что еда также оказывает воздействие на Тело и, в частности, такого рода, что влияет на чувствительность чувств и перцептивную функцию частей Тела. Например, сантонин оказывает воздействие, подобное очкам с жёлтыми линзами, и его другие эффекты – провоцировать параличи, делать Тело частично или полностью анестезированным и т. д.
Единственное важное – это то, что у меня есть опыт этих эффектов, что, воспринимая, я сразу знаю, что моё Тело находится в аномальном состоянии, и что затем в соответствующем, подлежащем дальнейшему определению в ходе опыта, происходят как следствия аномальной модификации Тела изменённые модусы ощущения или потеря определённых групп ощущений, и тем самым также изменённые модусы данности вещей. Включение аномалий, следовательно, расширяет изначальную систему психофизических обусловленностей, которая, вместе с нормальной конституцией, обнаруживается через простое изменение установки. Есть один нормально конституированный мир как истинный мир, как «норма» истины, и есть множественные видимости, отклонения модусов данности, которые находят своё «объяснение» в опыте психофизической обусловленности. Тем самым мы видим, что аномалии не могут внести ничего в конституирование вещей, и психофизические обусловленности тоже. То, что они вносят, – это только правило моей субъективности, которое именно заключается в этом, что вещи для субъектов суть испытуемые вещи и что обусловленные правила рядов ощущений соединены с телесно-вещными причинностями.
Результат этого – то, что перцептивные деятельности, рассматриваемые чисто как отношения физической причинности (чисто физический аспект осязания, обоняния, зрения и т. д.), не просто любые причинные отношения между Телом и вещами, которые должны быть восприняты; скорее, здесь мы имеем причинности типичного рода. Тело, как вещь, подобная любой другой, допускает, помимо этих, бесконечность причинностей, а именно все виды причинностей вообще, которые принадлежат вещам с такими физическими качествами. Если, следовательно, типичное нарушается, остаются возможными психофизические следствия, отклоняющиеся от типичного. Но типичное здесь – это соединение регулируемых групп ощущений, аппрехендируемых и фактически аппрехендированных как нормальные явления вещей, хотя такого рода, что они прерывают гармоничный опыт природы. Однако также остаётся открытой возможность такого изменения соответствующих частей Тела, что не происходит никаких ощущений вообще или только те, которые больше не могут быть аппрехендированы как явления вещей. Все такие группы явлений и ощущений выделяются как разрывы из системы «ортоэстетических» восприятий, в которых одна и та же реальность испытывается гармонично. Говорят, что Тело функционирует повсеместно ортоэстетически или «нормально», пока психофизически зависимые восприятия или явления являются ортоэстетическими. Для солипсического субъекта говорить о патологической, аномально функционирующей Телесности имеет смысл только в том случае, если этот субъект имеет свою систему ортоэстетических опытов и имеет тем самым непрерывно перед собой одну пространственно-временно-причинную природу. Это, в свою очередь, предполагает, что его Тело конституировано в системах ортоэстетических восприятий: таким образом, Тело не может быть патологическим повсеместно, но должно быть «нормальным» по крайней мере в той мере, что некоторые из его органов функционируют нормально, в силу чего патологические органы и части могут быть даны такими, каковы они объективно на самом деле.
Рука об руку с изменениями Тела, которые обусловливают модификации в явлениях вещей, идут другие модификации, которые относятся к субъекту согласно его психической жизни.
Также зависимы от Тел репродукции и вместе с ними апперцепции. Репродукции находятся в пределах ассоциативной связи субъективности. Апперцепции определяются через них, и это снова значимо для вещей, которые стоят перед субъектом. Это зависит от Тела и от того, что свойственно психике, что именно, как мир, стоит перед субъектом. Даже абстрагируясь от репродуктивных элементов, которые входят в апперцепцию вещи, психическое приобретает значимость для данности внешнего мира в силу отношений зависимости, которые существуют между телесным и психическим. Использование стимуляторов, так же как и телесные болезни, влияет на возникновение ощущений, чувственных чувств, тенденций и т. д. Обратно, психическое состояние, такое как веселье или печаль, оказывает влияние на телесные процессы. И благодаря этим связям являющийся внешний мир показывает себя как относительный не только к Телу, но и к психофизическому субъекту в целом. Следовательно, здесь проводится различие между идентичной самой вещью и её субъективно обусловленными модусами явления, то есть её субъективно обусловленными чертами, которые сохраняются в отношении меня, моего Тела и моей души.
В сфере интуиции из ряда множеств явлений выделяется «оптимальная данность», в которой вещь выходит на первый план вместе со свойствами, которые «принадлежат ей самой». Тем не менее, даже эта данность есть данность при определённых объективных и субъективных обстоятельствах, хотя это всё ещё «та же» вещь, которая при этих или других обстоятельствах представляется более или менее «благоприятным» образом.
d) Физикалистская вещь.
Объективация, осуществлённая в этих релятивизмах опыта в пределах опытной связи, полагает вещь как идентичный субстрат идентичных свойств. Конечно, вещь появляется по-разному в зависимости от того, надавливаю я на глаз или нет (двойные изображения), принимаю ли я сантонин и т. д. Но для сознания это одно и то же, и изменение окраски не считается изменением или, скорее, изменением свойства, которое объявляется цветом, которое дано в нём. И это универсально. Вещь есть то, что она есть в своей вещной связи и «в отношении» к испытывающему субъекту, но она всё та же во всех изменениях состояния и явления, которые она претерпевает как следствие изменяющихся обстоятельств. И как та же самая вещь она имеет запас «постоянных» свойств. Это напоминает нам формальную логику, которая имеет дело с объектами вообще и формулирует условия возможности для любой объективности вообще, чтобы иметь возможность считаться идентичной, то есть сохраняющей свою идентичность гармонично на протяжении всего. Каждый объект есть то, что он есть; другими словами, он имеет свои собственные качества, свойства, в которых он проявляет своё идентичное бытие, и с этими свойствами, которые являются его постоянными и которые принадлежат его идентичности, он вступает в отношения и т. д.
Если вещь есть (и согласованность в полагании бытия в пределах опытной связи есть изначальное основание разума для утверждения «Она есть»), тогда она должна быть определимой таким образом, который определяет не-относительное среди относительностей и, с другой стороны, определяет это из того, что содержит все основания права, из данных опыта, следовательно, из чувственных относительностей. Конечно, опыт не исключает возможности того, что он будет аннулирован будущим опытом или даже что реальное вообще не будет, хотя оно было дано согласованным образом. Но теперь есть правомерные основания для полагания бытия и, следовательно, для возможности и необходимости полагания цели логико-математического определения.
По мере того как мы разрабатываем эти вопросы, следует обратить внимание на различную роль, отводимую геометрическим определениям вещи в противоположность «чувственным качествам»; это находит выражение в начале Нового времени в различии между первичными и вторичными качествами. В конституировании вещи, которое осуществляется для одинокого субъекта с учётом относительной постоянности Телесности, мы должны прежде всего различить как нижний уровень:
1) Саму вещь (как она сама есть) с её конститутивными чертами, как они сами есть, в отличие от различных модусов данности, более или менее совершенных в зависимости от случая. Черты, которые принадлежат вещи «самой», тогда являются «оптимальными». Это применимо ко всем чертам, как к геометрическим, так и к чувственным качествам.
2) Теперь, как только «чувственная вещь» сама конституирована, и так же, основанная с ней, реально-причинная вещь на уровне подлинного опыта, чувственного опыта, тогда возникает новое конституирование более высокого уровня в отношении относительности этой «вещи» к Телесности, конституированной подобным образом. Именно эта относительность требует конституирования физикалистской вещи, проявляющейся в интуитивно данной вещи. Но в этой относительности геометрические определения и специфически «чувственные качества» играют совершенно разные роли (оба взяты, в их собственной конститутивной сфере, как «сами», как оптимальные). Геометрические определения относятся к самой физикалистской объективности; геометрическое принадлежит физикалистской природе в себе. Но это не верно для чувственных качеств, которые полностью принадлежат сфере явлений природы. Следовательно, должно быть показано в настоящее время, что и почему, особенно для этого релятивизма, они и только они принимаются во внимание.
e) Возможность конституирования «объективной природы» на солипсическом уровне
Мы проследили конституирование материальной природы через различные слои и увидели, что уже для «солипсического» субъекта – субъекта в изоляции – существуют мотивы для различения между «являющейся» вещью, чьё качественное содержание относительно моей субъективности, и «объективной» вещью, которая остаётся тем, что она есть, даже если происходят изменения в моей субъективности и, зависимо от неё, в «явлениях» вещи. Тем самым мы должны понимать под заголовком «истинной» или «объективной» вещи ещё нечто двойственное:
1) вещь, как она представляется мне при «нормальных» условиях, в противоположность всем другим вещным единствам, которые конституированы при «аномальных» условиях и деградированы до «простой видимости».
2) идентичное содержание качеств, которое, при абстрагировании от всей относительности, может быть разработано и зафиксировано логико-математически: то есть физикалистская вещь. Как только это известно и как только мы имеем, кроме того, объективное знание психофизического характера испытывающих субъектов, а также существующих обусловленностей между вещью и субъектом, тогда из этого может быть определено объективно, как должна быть интуитивно охарактеризована вещь в вопросе для соответствующей субъективности – нормальной или аномальной.











