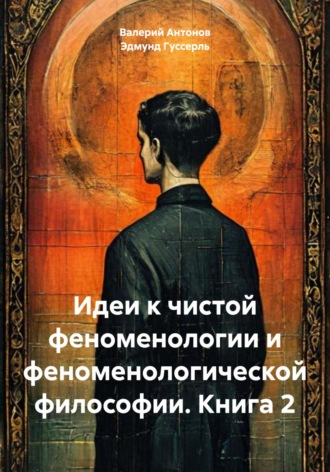
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
Аналитически мы продвигаемся всё дальше и в итоге приходим к чувственным объектам в ином смысле – тем, которые лежат в основе (конститутивно понимаемой) всех пространственных объектов, а значит, и всех вещных объектов материальной реальности, и которые отсылают нас к определённым предельным синтезам, но таким, которые предшествуют всякой тезисе.
Рассмотрим в качестве наиболее удобного примера звук скрипки. Его можно воспринимать как реальный скрипичный звук, а значит, как реальное событие в пространстве. В этом случае он остаётся тем же самым, независимо от того, удаляюсь я от него или приближаюсь, открыта или закрыта дверь соседней комнаты, где он звучит. Абстрагируясь от материальной реальности, я могу сохранить лишь пространственный звуковой фантом, являющийся с определённой ориентацией, исходящий из конкретного места в пространстве, наполняющий его и т. д. Наконец, пространственное восприятие можно и вовсе отбросить – и тогда останется лишь «чувственное данное», а не пространственно локализованный звук. Вместо сознания звука, который «там, в пространстве» остаётся неизменным, независимо от расстояния, теперь, при смещении фокуса на чувственное данное, звук предстаёт как нечто непрерывно изменяющееся.
Следует понимать, что такое звуковое данное могло бы конституироваться и без какого-либо пространственного восприятия, которое в нашем примере лишь абстрактно отброшено (или, точнее, «выключено», но остаётся в изменённом модусе переживанием – тем самым переживанием, которое пред-даёт пространственный звук). Однако стоит отметить, что это не обязательная пред-данность. Можно представить себе звук, полностью лишённый пространственной аппрегензии. Здесь, с чистым данным ощущения, мы сталкиваемся с пред-данностью, которая, тем не менее, предшествует конституированию объекта как объекта.
Мы можем описать это, противопоставив два возможных случая:
1. В фоне сознания может звучать тон, который хотя и воспринимается как объект, но не схватывается – Эго направлено на что-то другое.
2. Говоря о «звучащем тоне», мы имеем в виду состояние ощущения, которое, хотя и действует на Эго как стимул, но не обладает свойством объектного сознания, в котором звучащий тон осознаётся как объект.
Для пояснения можно привести генетический пример. Сознательный субъект, который ещё никогда не «воспринимал» звук – то есть никогда не схватывал его как объект для себя – такому субъекту никакой «объект-звук» не мог бы навязаться в качестве объекта. Но как только это схватывание происходит (первичное объектное сознание), оно может порождать объектные аппрегензии без интенционального внимания – будь то в форме воспоминания о схожих звуках или в форме фонового сознания вновь звучащего тона (последний случай мы и рассматривали).
Очевидно, не всякое внимание к звуку генетически отсылает к вниманию к уже конституированному объекту-звуку; должна существовать звуковая ощущение, которая не является ни аппрегензией объекта, ни его схватыванием. Должно быть первоначальное конституирование объекта-звука, которое как пред-дающее сознание предшествует; в строгом смысле оно не является «пред-дающим», но это сознание, которое уже аппрегензирует в терминах объектов.
Если оставить в стороне генетические соображения (которые, впрочем, не обязательно должны быть эмпирико-психологическими), то выделяются два феноменологически возможных случая:
1. Случай простой объектной аппрегензии, которая является объективирующим сознанием, но модифицированным по сравнению с сознанием, выделяющимся как внимание и схватывание.
2. Случай состояния ощущения, которое ещё не является аппрегензией в терминах объектов.
Таким образом, простая аппрегензия [Auffassung] оказывается здесь интенциональным производным от схватывания [Erfassung] – подобно тому, как репродуктивное воспоминание является производным от восприятия.
Объект изначально конституируется через спонтанность. Спонтанность самого низкого уровня – это спонтанность схватывания. Однако схватывание может быть реактивирующим – а именно, реактивацией модифицированного схватывания, которое направляет внимание схватывающего Эго на нечто, уже присутствующее в сознании как объект.
Или же оно может быть более изначальным актом, конституирующим объект наиболее оригинальным образом.
Таким образом, мы видим, что вся объективация пространственных вещей в конечном счёте отсылает к ощущению. Со всеми объективностями мы переходим от категориальных объективностей к чувственным.
К таковым относятся, с одной стороны, чувственные объективности, которые в определённом смысле являются αἰσθητά ἴδια (собственно чувственно воспринимаемым, по Аристотелю), то есть содержат репрезентанты лишь одной сенсорной сферы, причём так, что в них нет скрытых различных аппрегензий и они не отсылают интенционально к скрытым тезисам, которые могли бы быть эксплицированы через реактивацию.
Пример – звук, уже аппрегенированный как пространственный, если верно (как мы полагаем), что таким объективностям нельзя приписать интенциональные отсылки к перцептивным обстоятельствам, которые могли бы быть реализованы через соответствующие интенции.
Но от таких объектов мы в итоге приходим к чувственным данным, конституированным наиболее примитивным образом – как единства в изначальном временном сознании.
Все примитивные объекты – будь то объекты ощущения или уже конституированные единства в сфере чувственности (даже если они не являются реальными объектами в полном смысле) – изначально даны как объекты через простое однонаправленное «рецептивное» восприятие. В более широком смысле, вещные объекты, конституированные через участие нескольких сенсорных сфер, также «принимаются», но для их полной данности, как следует из предыдущего, требуются артикулированные процессы, цепочки рецепций. Можно также сказать, что первые объекты лишь приняты, а вторые – одновременно приняты и схвачены, поскольку содержат интенциональные компоненты, отсылающие к неактивным «принятиям» как скрытым составляющим.
Сложные моменты и философские отсылки:
1. Конституирование (Konstitution) – ключевое понятие феноменологии Гуссерля, означающее процесс, через который объекты приобретают смысл и значимость в сознании.
2. Кинестетические обстоятельства – отсылка к телесному движению как условию восприятия пространства (развито у Мерло-Понти).
3. Αἰσθητά ἴδια – термин Аристотеля («собственно чувственно воспринимаемое»), обозначающий качества, воспринимаемые только одним чувством (например, цвет – только зрением).
4. Рецепция vs. аппрегензия – различение между пассивным «принятием» и активным «схватыванием» объекта, важное для гуссерлевской теории восприятия.
5. Связь с Кантом – идея синтетического единства восходит к «Критике чистого разума», где Кант говорит о синтезе как условии объективности опыта.
Важно: Этот параграф иллюстрирует гуссерлевский метод редукции: от «наивного» восприятия вещей – к чистым данным сознания, лежащим в основе всякой объективности.
§11. Природа как сфера «чистых вещей» .Давайте теперь вернемся к идее природы как коррелята современного естествознания, радикальное феноменологическое разграничение которой было целью нашего исследования до сих пор. Очевидно, что в этом смысле «природа» – это сфера «чистых вещей», сфера объективностей, которая отличается от всех других теоретически рассматриваемых сфер объектов посредством разграничения, априори прочерченного в сущности конституирующего сознания.
Мы можем (и уже могли бы легко сказать), что естествознание не знает ценностных предикатов и практических предикатов. Понятия вроде «ценное», «прекрасное», «любезное», «привлекательное», «совершенное», «доброе», «полезное», а также «действие», «работа» и т. д., равно как и понятия «государство», «церковь», «право», «религия» и другие – то есть объективности, в конституировании которых оценочные или практические акты играют существенную роль, – не имеют места в естествознании, они не относятся к природе.
Однако необходимо понять изнутри, из феноменологических источников, что это абстрагирование от предикатов, принадлежащих сферам ценности и практики, – не дело произвольного отвлечения, оставленного на усмотрение субъекта, ибо в таком случае оно не породило бы радикально замкнутой идеи научной области и, следовательно, также идеи науки, априори самодостаточной. Тем не менее, мы действительно получаем такую априори замкнутую идею природы – как идею мира чистых вещей – при условии, что становимся чисто теоретическими субъектами, субъектами чисто теоретического интереса, и затем действуем исключительно в его удовлетворение.
Однако это следует понимать в ранее описанном смысле. Тем самым мы совершаем своего рода «редукцию». Мы как бы заключаем в скобки все наши чувственно-интенциональные акты и все апперцепции, проистекающие из интенциональности чувств, благодаря которым нам постоянно являются – ещё до всякого мышления – пространственно-временные объективности в непосредственной «созерцаемости», наделённые определёнными ценностными и практическими характеристиками, которые полностью выходят за пределы слоя чистой вещи.
Таким образом, в этом «чистом» или очищенном теоретическом отношении мы больше не воспринимаем дома, столы, улицы или произведения искусства; вместо этого мы воспринимаем лишь материальные вещи. Из этих ценностно-нагруженных вещей мы воспринимаем только их слой пространственно-временной материальности; и точно так же, в случае людей и человеческих сообществ – лишь тот слой их психической «природы», который связан с пространственно-временными «телами».
Однако здесь необходимо сделать одно уточнение. Было бы неверно утверждать, что коррелятом чистой природы является чисто «объективирующее Я-субъект», которое вообще не осуществляет никаких оценок. Безусловно, это субъект, безразличный к своему объекту, безразличный к актуальности, конституируемой в явлениях; то есть этот субъект не оценивает такое бытие ради него самого и, следовательно, не имеет практического интереса к возможным изменениям этого бытия, а значит, и к их формированию и т. д.
С другой стороны, этот субъект действительно ценит знание о являющемся бытии и его определение посредством логических суждений, теории, науки. Таким образом, он ценит «оно есть так», «как оно есть?». Более того, он придаёт значение и практическим вопросам; он действительно заинтересован в изменениях и будет производить их на практике посредством экспериментов. Но делает он это не ради них самих, а лишь для того, чтобы сделать видимыми те связи, которые могут продвинуть знание о являющемся бытии.
Таким образом, коррелят природы – это не субъект, который вообще не стремится, не желает и не оценивает. Это немыслимо. Познание природы абстрагируется лишь от всех прочих ценностей, кроме познавательных: «Я не хочу ничего, кроме как обогатить своё познание природы посредством "теоретического опыта" и узнать в теоретическом знании, основанном на опыте, что же есть являющееся, что есть природа».
Всякая чистая теория, всякое чисто научное отношение возникает из теоретического интереса к объективности или классу объективностей, которые могут быть конституированы изначально. В случае естествознания эта изначально конституируемая объективность – природа, реальное единство всех природных объективностей.
Термин «природная объективность» обозначает здесь класс объектов, которые в силу своей сущностной необходимости объединяются в реально связанное единство (по отношению к сосуществующим экземплярам), при этом характерно, что оценивающее сознание как «конституирующее» ничего не внесло в их сущностное строение, то есть в содержание их смысла.
Акты оценивания, совершаемые субъектом, познающим природу (субъектом, занимающимся естествознанием) как таковым, не конституируют объекты, с которыми он имеет дело, и именно поэтому можно справедливо утверждать, что в его сфере нет ценностных объектов или подобных им.
Однако здесь следует отметить один момент. Акты оценивания и воления – чувствование, желание, принятие решений, действие – не исключены из сферы, имеющей здесь значение; напротив, они полностью принадлежат ей, даже если не выступают как носители ценностных предикатов или других аналогичных.
Мы несём с собой всё сознание как объект, но позволяем себе «конституировать объекты» только через доксическое (познавательное) объективирующее сознание, а не через оценивающее. Сфера вещей, доступных нам в таком опыте, должна теперь определить для нас сферу естествознания.
С этого момента мы остаёмся исключительно в естественнонаучной установке, и нам ясно, что тем самым мы совершаем своего рода отстранение, своего рода ἐποχή (эпохе).
В обыденной жизни мы вообще не имеем дела с природными объектами. То, что мы принимаем за вещи, – это картины, статуи, сады, дома, столы, одежда, инструменты и т. д. Это все – ценностные объекты различного рода, объекты употребления, практические объекты. Они не являются объектами, которые можно найти в естествознании.
Разбор сложных моментов и философские параллели.
1. «Мир чистых вещей» – Гуссерль здесь развивает идею природы как объекта естествознания, очищенного от ценностных и практических характеристик. Это перекликается с:
– Кантом («Критика чистого разума»), где природа как предмет науки конституируется априорными формами рассудка.
– Гуссерлевской феноменологической редукцией (эпохе), которая «заключает в скобки» естественную установку, чтобы выявить чистые структуры сознания.
2. Различие между «вещью» и «ценностным объектом» – Гуссерль подчёркивает, что в естествознании мы имеем дело не с привычными вещами (дом, стол), а с их материальным субстратом. Это напоминает:
– Хайдеггера («Бытие и время»), где «подручное» (Zuhandenes) – это вещи в их практическом использовании, а «наличное» (Vorhandenes) – объективированный взгляд на них.
3. Роль оценивающего сознания – Гуссерль утверждает, что познающий субъект не полностью лишён оценивания, но его интерес направлен на познание. Это сближает его с:
– Максом Шелером (феноменология ценностей), который, однако, настаивал на первичности эмоционально-ценностного восприятия мира.
4. ἐποχή (эпохе) – ключевой термин феноменологии, означающий воздержание от суждений о существовании мира. Здесь Гуссерль применяет его к естественнонаучной установке, что необычно, так как обычно эпохе связано с трансцендентальной редукцией.
Важно: Гуссерль показывает, что естествознание возможно только благодаря специфической теоретической установке, исключающей ценностные и практические аспекты. Однако это не означает, что познающий субъект полностью лишён оценивания – он просто подчиняет его познавательной цели. Этот анализ предвосхищает более поздние дискуссии о соотношении науки и «жизненного мира» (Lebenswelt).
Глава вторая. Онтические смысловые слои вещи как таковой в интуиции.
§ 12. Материальная и животная природаМы направляем наше внимание на совокупность «реальных» вещей, на весь мир вещей, «универсум», природу, которая в своих формах пространства и времени охватывает все фактические реальности, но также включает в себя (очевидно, по существенным основаниям) и все априорно возможные реальности.
Уже при первом взгляде здесь бросается в глаза существенно обоснованное различие между природой в более строгом смысле – низшим и первичным смыслом, то есть материальной природой, – и природой во втором, расширенном смысле, то есть вещами, обладающими душой, в подлинном значении «живого», животной природой. Всё, что мы принимаем за существующее в обыденном смысле (а значит, в натуралистической установке), включая, таким образом, ощущения, представления, чувства и психические акты и состояния любого рода, принадлежит в этой установке именно живой природе; это «реальные» акты или состояния, онтологически характеризующиеся тем, что они суть деятельности или состояния животных или людей и как таковые являются частью пространственно-временного мира. Следовательно, они подчинены определениям, которые присущи «всякой индивидуальной объективности вообще».
Всякое вещное бытие протяженно во времени; оно имеет свою длительность и благодаря ей строго вписано в объективное время. Таким образом, со своей длительностью оно занимает фиксированное место в едином мировом времени, которое есть универсальная форма существования для всякой вещности. Всё остальное, чем вещь «является» согласно иным существенным определениям, принадлежащим ей, она есть в своей длительности, с более точным определением своего «когда». Поэтому мы уместно различаем временное определение (длительность вещи) и реальный признак, который, как таковой, наполняет длительность, распространяется на неё. Именно в силу этого априори необходимо, чтобы всякий признак вещи на протяжении её длительности либо непрерывно изменялся по своему содержанию, либо вообще не изменялся, причём в первом случае допустимы отдельные дискретные скачки. Если временное наполнение её длительности изменяется – непрерывно или скачкообразно, – то вещь «изменяется»; если же нет, то вещь остаётся неизменной.
Кроме того, всякое вещное бытие имеет своё место в мировом пространстве, относительное по отношению к любому другому вещному бытию и в принципе изменяемое. Вещь подвижна в пространстве в силу телесной протяжённости, которая принадлежит ей по существу и исключительно ей свойственна и которая может постоянно изменять своё местоположение в пространстве. Эти положения могут быть поняты настолько универсально, что они фактически и априори применимы к любому вещному бытию вообще.
Однако здесь возникает различие – именно в отношении телесной протяжённости – между вещностью материальной и вещностью в смысле животной природы. Не случайно Декарт обозначил extensio (протяжённость) как существенный атрибут материальной вещи, которая поэтому также называется просто телесной – в противоположность психическому или духовному бытию, которое в своей духовности как таковой не обладает extensio, а, скорее, по существу исключает её. Действительно, прежде всего следует уяснить, что extensio, правильно понятая, отличает природу в первом смысле от природы во втором смысле, хотя всеобъемлющий существенный атрибут материального бытия – не просто протяжённость, а материальность, поскольку последняя сама по себе требует как временной, так и пространственной протяжённости. Но важнее всего здесь понять особый способ, каким всё остальное, принадлежащее материальной вещи, априори (то есть по существу) соотносится с её протяжённостью.
Духовная природа, понимаемая как животная природа, представляет собой сложное единство, состоящее из низшего слоя материальной природы, чьей существенной чертой является extensio, и неотделимого высшего слоя, имеющего принципиально иную сущность и, прежде всего, исключающего протяжённость. Таким образом, даже если всеобъемлющей существенной чертой материальной вещи является материальность, всё же понятно, почему extensio может быть принята за существенный отличительный признак, дифференцирующий материальное от психического или духовного.
Объяснение сложных моментов и философские ссылки.
1. «Extensio» у Декарта.
– У Декарта (Meditationes de Prima Philosophia) extensio (протяжённость) – главный атрибут материальной субстанции (res extensa), тогда как мышление (cogitatio) – атрибут духовной субстанции (res cogitans).
– Здесь автор соглашается с декартовским различением, но уточняет, что материальность включает не только пространственную, но и временную протяжённость.
2. Дуализм материального и духовного.
– Различение «низшего» (материального) и «высшего» (духовного) слоёв в животной природе напоминает аристотелевскую гилеморфизм (единство материи и формы), но с феноменологическим уклоном: духовное не сводится к протяжённости, но «надстраивается» над ней.
3. Феноменология времени и пространства.
– Идея о том, что вещь «имеет своё “когда”» в объективном времени, перекликается с Гуссерлем (Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени), где время рассматривается как форма конституирования предметности.
4. Непрерывность и дискретность изменений.
– Утверждение о том, что изменения могут быть либо непрерывными, либо скачкообразными, отсылает к Лейбницу (Monadology), где мир состоит из монад, чьи изменения могут быть незаметными (непрерывными) или резкими.
5. Критика натурализма.
– Упоминание «натуралистической установки» (где психическое тоже считается частью природы) критикуется в феноменологии Гуссерля (Кризис европейских наук), где такой подход считается редукционистским.
Ключевые термины.
– Extensio – протяжённость (у Декарта – главное свойство материи).
– Материальность – более широкое понятие, включающее не только пространственную, но и временную определённость.
– Духовная природа – здесь: животная природа как единство телесного и психического.
Важно: Этот параграф закладывает основы для дальнейшего анализа различий между материальными и живыми сущностями в феноменологической онтологии.
§ 13. Значение протяженности для структуры «вещей» вообще и материальных вещей в частности.Что сейчас крайне важно – это прояснить своеобразный способ, каким всё, чем вещь является в прочих отношениях и по своей сущности, соотносится с протяженностью, которая необходимо принадлежит ей. Кроме того, важно понять, как, совершенно иначе, психические определения, принадлежащие животным реальностям, обретают – благодаря укоренённости психического в материальном – пространственную определенность, которая также необходима им.
Под пространственной (точнее: телесной) протяженностью вещи мы понимаем пространственную телесность, относящуюся к её конкретному сущностному содержанию именно так, как она принадлежит этому содержанию в полной определённости.
Соответственно:
– не только каждое изменение величины (при сохранении той же пространственной формы) влечёт изменение протяжённости,
– не только каждое изменение формы (при сохранении величины) или любая деформация в каком бы то ни было смысле делает то же самое,
– но и всякое изменение положения есть изменение протяжённости.
Таким образом, протяжённость – это не просто «кусок пространства», хотя в каждый момент времени существования вещи она с ним совпадает. Из её сущности следует, что ни само пространство, ни любой его фрагмент не могут двигаться; пространство не может иметь «дыры», то есть места, лишённого пространственности, которое лишь потом заполняется добавлением. Оно абсолютно неподвижно; его части – не «протяжённости» в нашем смысле, не «тела» (например, абсолютно неподвижные тела в физическом смысле).
Протяжённость как изменчивое свойство материальной вещи.
Я утверждаю, что эта определённость как изменчивая (пространственная протяжённость или телесность) занимает совершенно особое место среди конститутивных свойств материальной вещи.
В сущность протяжённости входит идеальная возможность дробления. Отсюда очевидно, что:
– любое дробление протяжённости дробит саму вещь – то есть расщепляет её на части, каждая из которых вновь обладает полной вещной характеристикой (характеристикой материальности).
– И наоборот: любое разделение вещи на вещи, любое её дробление как таковое дробит и её протяжённость.
Иными словами, вещь не просто «имеет протяжённость» в том смысле, что среди прочих её определений есть одно, называемое «телесная протяжённость». Напротив, всё, чем вещь является по своему содержанию – как в целом, так и в частностях, и особенно всё, чем она является в себе (согласно своей полной, наполняющей время сущности, согласно своим собственным чертам) – вещь протяжённа, она есть нечто, заполняющее телесное пространство.
Различие между геометрическими и реальными качествами.
Существует принципиальное различие между:
– телесными пространственными определениями вещи (величина, форма, фигура и т. д. – идеально говоря, геометрические определения)
– и её реальными качествами (то есть способами их проявления в данных обстоятельствах, точнее – в текущих временных фазах).
Каждая телесная качественность вещи «заполняет пространственное тело»; вещь распространяется в этом качестве; в каждом из них она заполняет свою телесность (свою протяжённость), и то же самое верно для всех реальных качеств в один и тот же момент времени.
Естественно, то, что верно для целого, верно и для любой части. В частности:
– каждая вещь уникальна,
– каждая может иметь свою особую пространственную протяжённость
– и заполнять её качественно совершенно разными способами.
Способ заполнения тела, его квалификация, «заполнение пространства» (если использовать этот не совсем точный, но привычный оборот) могут различаться в зависимости от типа свойств и от того, учитываем ли мы устойчивые качества или лишь реальные состояния (в изменении которых проявляются тождественные качества). Однако универсальный тип всегда и необходимо один и тот же.











