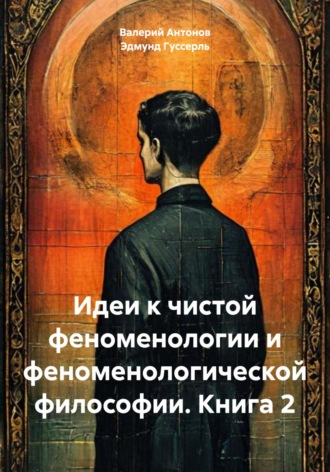
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 2
Каждый спонтанный акт после своего осуществления неизбежно переходит в спутанное состояние; спонтанность, или, если угодно, активность (чтобы выразиться точнее), переходит в пассивность, хотя и такого рода, что – как уже было сказано – она отсылает обратно к изначально спонтанному и артикулированному осуществлению.
Эта обратная отсылка характеризуется как таковая Я-могу или способностью, которая, очевидно, принадлежит ей, «реактивировать» это состояние, то есть преобразовать его в производство, которое осознается как «повторение» того порождения, из которого оно ранее возникло и в котором оно «снова» в конечном счете, как то же самое состояние, возникает и позволяет возникнуть в себе тому же самому результату – тому же самому конечному смыслу с той же самой значимостью.
Однако, как мы видели, такое состояние может аналогичным образом стать присутствующим в сознании, не возникнув таким образом – как вторичная пассивность – из только что завершившейся спонтанности.
2) Если мы остаемся теперь в сфере спонтанного осуществления актов, то, согласно предыдущему разъяснению, могут возникать различные спонтанности, накладывающиеся друг на друга, с различной феноменологической значимостью:
– с одной стороны, как доминирующая спонтанность – та, в которой мы предпочитаем жить,
– с другой стороны, как поддерживающая или сопутствующая спонтанность – та, которая остается на заднем плане, то есть та, в которой мы не предпочитаем жить (акты, характеризуемые как акты «интереса», независимо от их дальнейших специфических интенциональных свойств).
Например, мы получаем радостное известие и живем в радости. Теоретическим актом является тот, в котором мы осуществляем акты мышления, конституирующие для нас само известие; но этот акт служит лишь основанием для акта чувства, в котором мы предпочитаем жить.
Внутри радости мы «интенционально» (с чувственными интенциями) обращены к радостному объекту как таковому в модусе аффективного «интереса». Здесь акт обращения к радости обладает более высокой значимостью; это главный акт.
Но возможна и обратная ситуация: то есть может произойти смена установки – от радостной к теоретической. Тогда мы живем в теоретическом сознании (мы «теоретически заинтересованы»), и теоретический акт дает «главное». Мы можем по-прежнему радоваться, но радость остается на заднем плане – так происходит во всех теоретических исследованиях.
Там мы принимаем теоретическую установку, даже если одновременно могут осуществляться спонтанные и живые обращения, порождающие радость – например, живое чувство красоты явлений, возникающих в физико-оптических исследованиях.
Где-то в глубине сознания может даже созреть решение показать эти красивые явления другу, но мы все еще не в практической установке, а продолжаем оставаться с «темой» теоретической установки (кратко говоря, теоретической темой).
Снова возможен обратный переход – тогда мы оказываемся в практической установке и остаемся в ней, непрерывно следуя «практической теме», в то время как какое-то явление, близкое к нашим прежним теоретическим интересам, случайно привлекает наше внимание. Однако оно не становится для нас теоретической темой; оно остается в подчиненной роли в контексте практики – если только мы действительно не меняем практическую установку на теоретическую, не оставляем практическую тему, чтобы принять теоретическую.
Возможно, этого неполного описания будет достаточно, чтобы дать читателю достаточно ясное представление о феноменологических различиях, которые я здесь имею в виду.
Теперь, в таких тематических переплетениях, постоянно конституируются новые объективности, возможно, со все более высокими конститутивными слоями – в зависимости от того, возникают ли они из теоретических, оценочных или практических актов – и обладают тематической значимостью, смысл которой различен в зависимости от установки.
В частности, через переход к теоретической установке они снова и снова могут становиться теоретическими темами. Тогда они становятся объективными в особом смысле: они схватываются и становятся субъектами предикатов, которые определяют их теоретически, и т. д.
Естественно, аналогичным образом мы сталкиваемся во внетематической сфере, в сфере пассивности, с различными объективностями, которые осознанно (а значит, посредством интенциональности, сколь бы «спутанной» она ни была) отсылают к таким связям.
Объяснение сложных моментов и философские параллели.
1. Спонтанность vs. пассивность.
– Спонтанность (у Гуссерля) – это активное, осознанное осуществление актов (например, мышление, волевое действие).
– Пассивность – состояние, в котором объекты даны без активного участия Я (например, фоновые восприятия, ассоциации).
Эта дихотомия перекликается с:
– Кантом (спонтанность рассудка vs. рецептивность чувственности),
– Фихте (Я как активное начало, полагающее не-Я),
– Бергсоном (различие между автоматическим и свободным действием).
2. Реактивация и повторение.
Гуссерль говорит о возможности реактивировать прошлые акты – это ключевая идея его феноменологии времени (см. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени).
3. Теоретическая, аксиологическая и практическая установки.
– Теоретическая – направлена на познание (ср. с эпохе Гуссерля).
– Аксиологическая – ценностное отношение (влияние Брентано и Шелера).
– Практическая – действие (связь с прагматизмом и Хайдеггером).
4. Интенциональность и интерес.
Понятие «интереса» близко к:
– Ницше («перспективизм» – мы видим то, что значимо для нас),
– Хайдеггеру («забота» как структура Dasein).
Важно: Этот параграф раскрывает динамику сознания, где спонтанность и пассивность, актуальность и неактуальность постоянно взаимодействуют, создавая сложные интенциональные структуры. Гуссерль здесь закладывает основы для анализа модусов внимания, памяти и воли, что позже разовьют Сартр, Мерло-Понти и другие феноменологи.
§ 6. Различие между переходом в теоретическую установку и переходом в рефлексию.Нам необходимо тщательно различать переход в теоретическую установку (на чем мы до сих пор сосредотачивались) и переход в имманентное восприятие, направленное на сам акт, или в имманентную ретенцию (удержание), когда этот акт уже мимолетно прошел. Последнее также представляет собой теоретическую установку: восприятие, как и ретенция, есть форма объективации, и в так называемой имманентной рефлексии над актом мы живем в этой объективации, осуществляя ее. Следовательно, мы пребываем в теоретической установке. Однако эта теоретическая установка иная – она гораздо более примечательна и, в принципе, принадлежит всем актам.
В эстетическом удовольствии мы осознаем нечто как эстетически приятное, как прекрасное. Исходным пунктом пусть будет то, что мы живем в этом удовольствии, то есть с радостью отдаемся являющемуся объекту. Затем мы можем рефлексировать над самим удовольствием, например, когда говорим: «Мне это нравится». В этом случае суждение действительно относится к моему акту удовольствия. Но совсем иное дело – направить взгляд на сам объект и его красоту.
Я схватываю красоту в самом объекте, хотя, конечно, не посредством прямого чувственного восприятия, которое дает цвет или форму. Тем не менее, именно в объекте я обнаруживаю красоту. Здесь «прекрасное» – это отнюдь не предикат рефлексии (как, например, в высказывании «Это приятно мне»). Такие объектные предикаты, как «приятное», «восхитительное», «печальное» и им подобные, по своему объективному смыслу не являются предикатами отношения, отсылающими к актам. Они возникают благодаря изменению установки, которое мы описали; при этом сами акты предполагаются. Я продолжаю испытывать удовольствие, радость или печаль, но вместо того, чтобы просто радоваться или печалиться (то есть осуществлять эти акты чувствования), я перевожу их в иной модус благодаря изменению установки. Они остаются переживаниями, но я уже не живу в них в собственном смысле. Я обращаюсь к объекту и обнаруживаю в нем (в своей измененной, теперь уже теоретической установке) корреляты этих актов чувствования, а именно: объективный слой, накладывающийся на слой чувственных предикатов – слой «восхитительного», объекта, который объективно «печален», «прекрасного», «безобразного» и т. д. Однако в теоретической установке рефлексии я не могу обнаружить объективные предикаты, а лишь те, что относятся к сознанию.
Теперь становится ясно, что всякое высказывание об объектах, их предикатах, свойствах, отношениях или соответствующих им положениях дел (например, законах) отсылает к теоретическим актам, в которых объекты даны (или могут быть даны), воспринимаются или иным образом схватываются, теоретически объясняются, мыслятся и т. д. Если мы приписываем объективности всем интенциональным переживаниям, включая аффективные (то есть объекты, к которым эти переживания относятся в модусе чувствования – например, ценности, практические объекты и т. д.), то делаем это, очевидно, с отсылкой к тому, что в сущности каждого акта заложены возможности различных теоретических направленностей внимания, в которых такие объекты могут быть схвачены как уже имплицитно содержащиеся в чувственной установке. Среди них – объекты, собственные каждому базовому виду актов, например, ценности, принадлежащие оцениванию, и т. д.
Разъяснение сложных моментов:
1. Теоретическая установка vs. рефлексия
– Теоретическая установка – это позиция, в которой мы рассматриваем объекты как данные для познания (например, научное исследование).
– Рефлексия – это поворот сознания на сам акт (например, не просто радоваться, а осознавать: «Я сейчас радуюсь»). Хотя рефлексия тоже теоретична, она иная, поскольку раскрывает имманентные структуры сознания.
2. Объективация.
– Термин восходит к Гуссерлю: процесс, в котором переживание становится предметом сознания (например, не просто чувствовать боль, а осознавать ее как «мою боль»).
3. Предикаты рефлексии vs. объективные предикаты
– «Мне это нравится» – предикат рефлексии (отсылает к моему акту удовольствия).
– «Это прекрасно» – объективный предикат (относится к самому объекту, несмотря на то что красота дана через чувство).
4. Корреляты актов чувствования
– Гуссерль развивает идею, что каждому акту соответствует объективный коррелят:
– Чувству радости соответствует «радостное» в объекте.
– Эстетическому переживанию – «прекрасное».
– Это перекликается с аксиологией Шелера, где ценности даны в эмоциональном опыте, но обладают объективным статусом.
5. Связь с другими философами
– Кант: различал «приятное» (субъективное) и «прекрасное» (обладающее всеобщностью). Гуссерль идет дальше, показывая, как «прекрасное» схватывается в интенциональном акте.
– Брентано: учение об интенциональности (сознание всегда направлено на объект) – основа гуссерлевского анализа.
– Хайдеггер: позже критиковал гуссерлевскую рефлексию за «объективирующий» подход, противопоставляя ему «бытийное» понимание.
Ключевые термины:
– Ретенция (удержание) – сохранение только что прошедшего переживания в памяти (термин феноменологии времени Гуссерля).
– Имманентное восприятие – направленность сознания на собственные акты, а не на внешний мир.
– Объективация – превращение переживания в предмет мысли.
Важно: Этот параграф важен для понимания того, как чувственные и ценностные переживания могут стать основой для теоретического познания, не теряя связи с «живым опытом».
§ 7. Объективирующие и не-объективирующие акты и их корреляты.К этому мы сразу же присоединяем дальнейшее различение. Каждый базовый вид акта характеризуется собственным базовым видом «акт-качества» (act-quality). Так, объективирующие акты характеризуются качеством доксы (doxa), «верования» в его различных модификациях;
основной вид акта, который в широком смысле мы обозначаем как оценивающий, – именно качеством акта оценки и т. д. Теоретические акты – это те, которые собственно или явно объективируют: чтобы иметь Объекты в собственном смысле или объекты, требуется характерная установка схватывания и полагания теоретического субъекта.
Каждый не-объективирующий акт позволяет извлекать из себя объективности посредством сдвига, изменения установки. По своей сути, следовательно, каждый акт одновременно имплицитно объективирующий. По своей природе он не только надстраивается, как более высокий уровень, над объективирующими актами, но и сам является объективирующим в соответствии с тем, что он добавляет как нечто новое.
Таким образом, становится возможным погрузиться в эту объективацию, и тогда не только объект лежащей в основе объективации, но и новообъективированное в новом слое чувств приходит к теоретической данности. Если удовольствие основано на простой объективирующей перцепции, то я могу теоретически схватить не только воспринятое, но и то, что было новообъективировано посредством удовольствия. Например, я могу схватить красоту как теоретический предикат воспринятого, как было показано выше.
Теперь здесь, очевидно, есть две возможности:
1) Либо акт изначально является только объективирующим (если это вообще возможно), или, если он действительно имеет слой иного качества, пусть даже по сути переплетённый с новой объективацией, мы оставляем его вне игры и не живём в нём – и тогда схватываем лишь вещи и лишь логические характеристики вещей. Характеристики объекта, соответствующие новым актам или новым качествам, либо изначально вообще отсутствуют (если это возможно), либо остаются вне действия, вне рассмотрения. В любом случае тогда не было бы ни прекрасного или безобразного, ни приятного или неприятного, ни полезного или хорошего, ни вещей для использования, ни чашек, ложек, вилок и т. д. Все такие термины уже включают в себя, в соответствии со своим смыслом, предикаты, производные от не-объективирующих актов.
2) Либо мы движемся в сфере новых, фундированных качеств. Мы втягиваем в сферу теоретического интереса, в круг теоретической установки, также и предикаты, коррелятивные этим актам. И тогда у нас не просто вещи, но именно ценности, блага и т. д.
Объяснение сложных моментов.
1. Объективирующие и не-объективирующие акты
– Объективирующие акты – это акты сознания, которые полагают объект как нечто самостоятельное (например, восприятие, суждение).
– Не-объективирующие акты (эмоции, оценки) сами по себе не полагают объект, но могут быть переведены в объективирующую форму (например, «это красиво» вместо просто переживания красоты).
2. Докса (doxa) и её модификации
– Термин восходит к Аристотелю и феноменологии Гуссерля. Докса – это «мнение» или «вера» в широком смысле, базовый модус полагания бытия.
– В гуссерлевской феноменологии доксические модификации включают сомнение, отрицание, предположение и т. д.
3. Фундирование (основание) актов
– Гуссерль утверждает, что не-объективирующие акты (например, эмоции) фундируются на объективирующих (например, восприятии).
– Это перекликается с идеей Брентано о том, что все психические феномены либо суть представления, либо основаны на них.
4. Теоретическая установка
– Это позиция, в которой субъект рассматривает мир как объект познания, а не переживания.
– Сравнимо с «эпохе» Гуссерля – воздержанием от суждений о существовании, чтобы сосредоточиться на чистом описании феноменов.
5. Корреляты актов
– Коррелят – это то, что соответствует акту сознания (например, эмоции «радость» коррелирует «радостное событие»).
– У Хайдеггера в «Бытии и времени» это переосмысляется как «интенциональность» – направленность сознания на предмет.
Связь с другими философами.
– Франц Брентано: Разделял акты на представления, суждения и эмоции, что повлияло на Гуссерля.
– Мартин Хайдеггер: Критиковал гуссерлевский теоретизм, подчёркивая первичность «бытия-в-мире» до рефлексии.
– Макс Шелер: Развивал теорию ценностей, где эмоциональное восприятие ценностей предшествует их рациональному осмыслению.
Важно: Этот параграф Гуссерля важен для понимания того, как эмоции и оценки могут стать предметом теоретического анализа через их объективацию.
§ 8. Чувственно данные объекты как первичные конституирующие объекты.Очевидно, что во всех этих формах конституирования объектов мы приходим к таким объектам, которые уже не отсылают к предданным объектам, возникшим из какой-либо теоретической, оценочной или практической спонтанности. Иными словами, если мы проследим интенциональную структуру любых данных объектов, а также ретроспективные указания, которые даны нам в форме вторичных рецептивностей, и если мы активируем спонтанности, приводящие соответствующие объективности к полной аутентичной изначальной данности, то мы придём – возможно, через ряд шагов – к основополагающим объективностям, ноэмам, которые уже не содержат в себе ничего из таких ретроспективных указаний и которые изначально схватываются или могут быть схвачены в наиболее непосредственных тезисах, не отсылая при этом ни к каким предшествующим тезисам, участвующим в конститутивном содержании объекта – тезисам, которые лишь должны быть реактивированы. Объекты, феноменологически характеризующиеся этим свойством – своего рода первичные объекты, к которым, в соответствии с их феноменологической конституцией, отсылают все возможные объекты – это чувственные объекты.
Однако представленная до сих пор характеристика отнюдь не является полной и совершенной. На самом деле, всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. С этим связан тот факт, что понятие «чувственной вещи» не является однозначным, равно как и коррелятивное ему понятие репрезентации в строгом смысле – я имею в виду чувственную репрезентацию (чувственное восприятие, чувственное воспоминание и т. д.).
Разбор сложных моментов и философские параллели.
1. Конституирование объектов – процесс, посредством которого сознание придаёт смысл (значение) объектам. У Гуссерля это связано с интенциональностью – направленностью сознания на предмет.
– Сравнение с Кантом: У Канта категории рассудка конституируют опыт, но Гуссерль идёт дальше, исследуя, как объекты даны в самом сознании.
2. Ретроспективные указания (Rückverweisungen) – отсылки к предшествующим актам сознания, которые участвовали в конституировании объекта.
– Пример: восприятие дома отсылает к прошлым восприятиям его сторон (задней, боковой), но первичные чувственные данные (например, цвет, форма) не требуют таких отсылок.
3. Первичные объекты (чувственные данные) – базовые элементы опыта (цвет, звук, тактильные ощущения), которые не зависят от более сложных конститутивных актов.
– Сравнение с Юмом: У Юма «впечатления» (impressions) – простейшие элементы опыта, но Гуссерль добавляет к этому интенциональную структуру.
4. Неоднозначность «чувственной вещи» – Гуссерль указывает, что даже на уровне чувственного восприятия есть сложности (например, различие между самим ощущением и его интерпретацией).
– Сравнение с Беркли: Для Беркли «чувственные данные» (ideas) – единственная реальность, но Гуссерль рассматривает их как часть интенционального акта.
5. Чувственная репрезентация – восприятие, воспоминание и т. д., которые даны непосредственно, без опосредованных смысловых наслоений.
– Сравнение с Брентано: Брентано также разделял акты восприятия и суждения, но Гуссерль углубляет анализ, вводя понятие ноэмы (смыслового содержания акта).
Важно: Гуссерль здесь развивает идею феноменологической редукции, показывая, как сложные объекты опыта сводятся к первичным чувственным данным. Однако он подчёркивает, что даже эти данные не абсолютно просты, а требуют дальнейшего анализа. Это перекликается с его более поздней работой «Кризис европейских наук», где он говорит о «жизненном мире» как основе всякого опыта.
§9. Категориальный и эстетический («чувственный») синтез.Исходное различие.
Отправной точкой для нас будет различие между категориальным (формальным и в определённом смысле аналитическим) синтезом и эстетическим (чувственным) синтезом.
Мы знаем, что любые объекты – независимо от их структуры (объекты любой области, любого вида и рода) – могут становиться субстратами для определённых категориальных синтезов и входить в качестве конститутивных элементов в категориальные образования объектов более высокого уровня. К последним относятся:
– коллективы (множества),
– дизъюнктивы (разделительные единства),
– положения дел (например, отношения между А и B, атрибутивные связи – «А есть а» и т. п.).
Эти образования встречаются:
– в доксической сфере (сфере веры и полагания), где одни полагания (theses) строятся на других (например, субъектные полагания служат основанием для предикатных);
– в сфере чувства и воли, где волевые акты основываются на других волевых актах (например, «цель» и «средство»).
Тем самым мы затрагиваем:
– единства эмоционального и волевого поведения,
– образования, которые по своей сути принадлежат этим единствам (например, положения дел, данные эксплицитно, но не интуитивно),
– логические образования, которые по своей сущности суть либо положения дел, либо их возможные части или моменты.
Категориальный и эстетический синтез: ключевые разл.
1. Категориальный синтез
– Осуществляется через множество полаганий (theses), которые объединяются в акте спонтанности.
– Это активная деятельность сознания, в которой синтетическая связь создаётся самим актом мышления (например, суждение «S есть P» предполагает соединение субъекта и предиката).
– Примеры: логические конструкции, суждения, категориальные объекты (множества, отношения и т. д.).
(Здесь можно провести параллель с Кантом, у которого категориальный синтез связан с деятельностью рассудка, а именно с применением категорий к чувственному материалу. Однако Гуссерль идёт дальше, рассматривая синтез не только в познании, но и в волении и чувствовании.)
2. Эстетический (чувственный) синтез
– Не является спонтанным актом, но возникает пассивно, как единство восприятия.
– Объединяет чувственные данные без участия категориального мышления.
– Пример: восприятие вещи в непосредственной данности (например, визуальное восприятие формы, цвета, тактильные ощущения).
(Этот момент перекликается с Гуссерлевой концепцией пассивного синтеза, который предшествует активной категоризации. Сравнимо также с бергсоновской интуицией как непосредственным схватыванием длительности.)
Функции эстетического синтеза.
1. Объединение частичных значений
– Восприятие вещи включает «вторичные пассивности» – неявные смысловые моменты, которые мотивируют дальнейший ход восприятия.
– Например, видя одну сторону предмета, мы имплицитно предполагаем другие стороны (этот момент развит у Мерло-Понти в феноменологии восприятия).
2. Синтез между разными сенсорными сферами
– Зрительные и тактильные данные объединяются в единый образ вещи.
3. Связь между моментами явления вещи и условиями восприятия
– Например, движение глаз при зрении или рук при осязании не осознаются явно, но влияют на восприятие.
Горизонты восприятия и имплицитные смыслы.
– Восприятие вещи всегда включает неопределённые горизонты (например, невидимые стороны).
– Эти горизонты могут быть актуализированы (например, при обходе предмета) или оставаться неявными.
– Анализ восприятия не всегда требует реактивации скрытых моментов, но всегда предполагает, что они уже латентно присутствуют в синтезе.
(Этот аспект близок Хайдеггеровскому понятию «подручности» (Zuhandenheit), где вещи даны в их функциональной целостности до тематического анализа.)
Важно:
Гуссерль различает:
– Категориальный синтез – активный, логический, основанный на полаганиях.
– Эстетический синтез – пассивный, чувственный, обеспечивающий единство восприятия до всякой рефлексии.
Это различение важно для понимания доктрины интенциональности и феноменологического метода, который стремится выявить первичные структуры сознания, лежащие в основе всех познавательных актов.
§ 10. Вещи, пространственные фантомы и данные ощущения.Объекты, которые до сих пор служили нам представителями чувственно данных вещей, были реальными вещами, какими они даны в «чувственном восприятии» до всякого мышления (до всякой деятельности синтетико-категориальных актов). Они не являются спонтанными продуктами (не продуктами в собственном смысле, что предполагало бы подлинную активность, действие), но всё же представляют собой «синтетические» единства компонентов (такие компоненты не обязательно должны быть синтетически связаны). Единство зрительно воспринимаемой вещи не требует обязательной связи с единством тактильно воспринимаемой вещи. И это ещё не всё. Уже в конституировании чувственно данного пространственного нечто как такового, даже если это лишь чисто зрительный пространственный фантом (форма, наполненная исключительно цветом – не только без связи с тактильными или иными сенсорными данными, но и без всякого отношения к моментам «материальности» и, следовательно, к каким-либо реально-каузальным определениям), мы имеем дело со скрытым, аналитически выявляемым конститутивным синтезом. Это действительно «явление», отсылающее к кинестетическим «обстоятельствам», к которым оно принадлежит.











