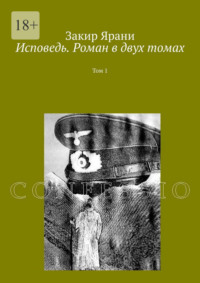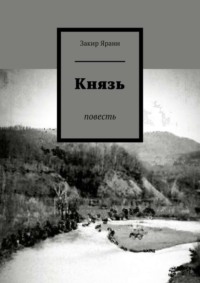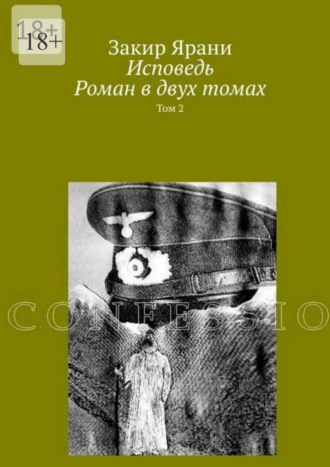
Полная версия
Исповедь. Роман в двух томах
– Если он расскажет то, что мы требуем от него, – продолжал Тим. – то мы можем обменять его на кого-нибудь из наших агентов… ну, или военнопленных. И его, и его брата. И пусть наслаждается последние дни в обществе своих любимых коммунистов… пока не замерзнет вместе с ними в Сибири, куда наша армия скоро выдавит их… когда перейдет Волгу.
Шмидт перевел. Очерет грубо и безрадостно рассмеялся.
– Якбы я выдав свойих друзив, я б помер вид сорому, зьявывшись серед свойих, – сказал он. – Ни шагу вы з мойею допомогою не зробыте. Мий народ скынув царя та панив не для того, шоб нимецьки паны та буржуйи на наший земли були господарями…
– Он говорит, что умер бы от стыда, если бы выдал своих друзей и появился среди остальных, – перевел Тиму Шмидт. – И что мы с его помощью не сделаем ни шагу. Что его народ сверг царя и господ не для того, чтобы на их земле хозяевами были немецкие господа и капиталисты.
– Ну, так мы же будем держать в секрете, что это он выдал своих сообщников, – сказал Тим с напускным равнодушием. – Этого даже мои непосредственные коллеги не будут знать. Я и директор… ну, еще вы, Шмидт – по долгу службы, но вы-то точно не проговоритесь, вы отлично умеете хранить секреты. Его так называемые «друзья» зазря подвели к казни и его, и его брата, который, по правде говоря, ни в чем и не повинен. Разве не могли они не знать, чем это обернется? Непременно знали! А теперь что получается? Он и его юный брат сегодня или завтра закончат свою жизнь в этой тюрьме, а его друзья дальше будут свободно ходить по улицам, радоваться жизни. И если мы их так и не установим, рано или поздно смирятся с нашей властью, а то и поддержат ее, сами будут нам помогать, когда увидят, что никаких этих ужасов вроде негров в рабстве мы не принесли. А его с братом могилы даже не будут искать.
Шмидт перевел Очерету.
– Я ясно сказав, – ответил тот. – Мени краше померты, аниж допомагаты фашистам.
– Говорит, что ему лучше умереть, чем помогать фашистам, – перевел Шмидт Тиму.
– И брата убьет? – спросил Тим. Шмидт перевел.
– Якшо брат помре, це краше, ниж стане або рабом, або фашистом, – ответил Очерет.
– Он говорит… – начал переводить Шмидт.
– Благодарю вас, Шмидт, я понял, что он сказал, – произнес Тим, кивнув. И, макнув перо ручки в чернильницу, принялся писать на лежавшем перед ним листе отчет, что подследственный Виктор Очерет категорически отказывается давать какие-либо показания и признается в глубокой преданности ВКП (б) и ее учению, а также угрожает убивать немцев в случае своего освобождения. Написав недлинный текст отчета, Тим поставил под тем подпись, затем придвинул лист и дал ручку Шмидту, чтобы Шмидт тоже расписался как переводчик и свидетель. Когда Шмидт поставил свою подпись, Тим принялся промокать текст пресс-папье, между делом произнеся:
– Людям трудно взглянуть на жизнь по-новому и начать жить заново! Даже когда их дело рушится, они предпочитают умирать вместе с ним… как-будто гибнет само бытие!..
– Привычка – сильная вещь! – согласно кивнул Шмидт.
– Ты украйинец чи нимец? – произнес Очерет, глядя на переводчика.
– Кым тоби бивше подобайеться – тым и буду! – усмехнувшись, ответил Шмидт.
– Зрозумило, – сказал Очерет. – Продажна дупа ты.
Шмидт рассмеялся.
– А ты – повный идиот, – сказал он. – Идиотом був – идиотом помреш. Красногвардеец.
Тим встал из-за стола, шагнул к Очерету, сидевшему на стуле со скованными за спинкой того руками, и, сжав кулак, резко двинул подследственного под ребра. Вскрикнув, Очерет скорчился на стуле, его скованные сзади руки будто натянулись. Не давая ему отдышаться, Тим ударил его ниже груди, затем схватил за взлохмаченные темные волосы и стукнул лбом о ребро крышки стола. Когда Очерет со стоном отдышался и приоткрыл сквозящие злобой и ненавистью карие глаза, Тим с размаху ударил его кулаком по переносице; кровь хлынула, заливая комсомольцу губы и щетинистый подбородок, капая на светло-серую рубашку. Чувствуя прилив безудержной ярости при виде врага исконных человеческих традиций и порядка, сидящего здесь со скованными руками и даже в таком положении надменно прославляющего свои идеи, Тим еще дважды обрушил свой кулак на лицо коммунистического пособника. Затем, нагнувшись и вывернув тому волосы, холодным тоном произнес:
– Ти будеш умират! И твой брат! И твойа подруга! У тебйа ешо йест очен мáлё времйа, штоби спасат себйа и их! Совсем мáлё времйа! – отпустив волосы подследственного, который бессильно обвис на стуле на скованных руках, Тим нажал на кнопку вызова охраны. Лязгнул отпираемый замок, со скрипом отворилась стальная дверь, и конвойные, грохоча сапогами, вошли в полутемное помещение допросной камеры.
– Пока в камеру его! – распорядился Тим, усаживаясь обратно за стол. – Ведите Иванову!
Конвойные, подойдя к стулу, на котором сидел со вновь окровавленным лицом Очерет, отстегнули наручники, подняли подследственного и потащили к выходу. Дверь снова со скрипом закрылась, из-за нее послышались оживленные голоса охраны.
Вскоре привели Иванову. Третий допрос ее так же ничего не дал: несмотря на изможденный вид, девушка повторяла как заведенная, что все уже сказала, ни с кем из подполья не знакома, пришла к Очерету просто как к другу, и откуда записка в ее сумке, что означает явно зашифрованный текст этой записки, не знает. Тим напрасно грозил ей вынесенным решением о казни ее и братьев Очеретов, если истина не выяснится, убеждал ее не губить жизнь и молодость ради обреченного большевизма, призывал быть откровенной хотя бы ради спасения малолетнего брата ее приятеля, которого они так необдуманно тоже подвели к смерти в застенках. Девушка продолжала все отрицать. Тим, уже выпустивший основную ярость в конце допроса Очерета, не стал бить женщину: все равно было ясно, что от Ивановой ничего сейчас не добиться, и распорядился ее увести. Когда конвойные с ней вышли, и Тим встал, убирая в портфель составленный отчет о том, что подследственная категорически отказывается давать показания и повторяет очевидно ложную легенду, Шмидт проговорил:
– Деревянная баба!
– Что? – переспросил Тим. – А, вы про ее упорство.
– Ну да, – сказал Шмидт, поднимаясь со стула.
– Это устойчивое, но не соответствующее реальности, представление, будто женщины менее стойки, чем мужчины, – сказал Тим, застегивая портфель. – Женщины легче теряются, ломаются при внезапно изменившейся обстановке. Например, женщина идет себе за водой или на рынок, не ожидает ничего чрезвычайного, а ее вдруг хватают и требуют сходу сказать, где укрываются не отступившие красноармейцы. Тут женщины обычно быстрее мужчин поддаются, начинают путаться – и в итоге сознаются. Мужчины в таких случаях искусно врут, притворяются невинными, несчастными, ничего не знающими. А вот когда женщина знает, на что идет, уже готова, что ее арестуют, будут допрашивать – тут ее очень трудно расколоть. Если женщина держится на чем-то – она как клещ, не оторвется. В общих делах женщины рассеянны, легки, а в своем деле – упорны, дотошны.
– Да уж… – произнес Шмидт, прохаживаясь по допросной камере и разминая ноги.
– Пойдемте, Шмидт, сейчас к коменданту тюрьмы, – сказал Тим. – И дальше будем эту коммунистическую шайку по-другому допрашивать.
Они поднялись обратно в кабинет тюремного коменданта. Тот, хотя принимал у себя какого-то гауптштурмфюрера-интенданта, прервал свою беседу и попросил того подождать за дверью. Тим, присев снова возле письменного стола коменданта, разъяснил, что допросы снова ничего не дали, и придется переходить к исключительным мерам.
– Вызываем D-шников? – спросил комендант. «D-шниками» в тюрьме разговорно называли состоявшую из хипо команду D – особое подразделение охраны, использовавшееся для исключительных мер вытягивания информации из арестованных. Туда – служить за более высокое жалованье, переводили русских охранников, проявивших особую твердость и беспринципность по отношению к арестантам. Эта «команда палачей» вызывала неприязнь и у тюремных офицеров, и у других охранников, однако ее наличие позволяло немцам лишний раз не марать руки в крови подследственных и самим не заниматься тошнотворной работой.
– Вызывайте, – кивнув, сказал Тим. – Нам спускаться куда? К складу?
– Да, у нас там все эти мероприятия проводятся! – тоже кивнув, ответил комендант и снял трубку телефона внутренней связи. – Они уже оповещены, наверное, ведра уже приготовили…
– Младшего Очерета… Евгения, тоже пусть забирают, – сказал Тим. – С ним – как с остальными. Он вряд ли имеет что-нибудь сказать сам, но может быть, в его присутствии старший все-таки поддастся.
– Да, я понял! – сказал комендант. – Соедините меня с командой D, – приказал он по телефону дежурному…
Вскоре Тим и Шмидт, надев соответственно шинель и плащ, вышли через более широкий и светлый, чем большинство тюремных проходов, административный коридор на частично заасфальтированный, частично поросший травой дальний двор тюрьмы, где остановились у заблокированного бокового входа в кирпичное здание хозяйственного корпуса. Над закрытой стальной дверью возвышался бетонный козырек, спереди державшийся на двух металлических столбах-опорах. Эта часть тюремного двора по краям была завалена разным отработанным хламом: пустыми ящиками и бочками, колесами от подвод, вымотанными деревянными бобинами и прочим. Просматривалась она с единственной патрульной вышки у окружавшей тюремную территорию высокой кирпичной стены старой постройки. На вышке сейчас флегматично стоял часовой в теплой куртке, каске, из-под которой темнел прикрывавший по бокам лицо подшлемник, и с винтовкой за плечами. Несмотря на холод и дующий, как и вчера, сырой ветер, он был малоподвижен, лишь мерно поворачивался поминутно то в одну, то в другую сторону, обозревая охраняемую им зону по обе стороны стены. Возле этого заблокированного входа в хозяйственный корпус привычно производились допросы подследственных с применением крайних мер: здесь было меньше ненужных посторонних глаз, а поддерживавшие козырек над дверью металлические столбы являлись удобной опорой для фиксации допрашиваемых.
– Вашей выдержке, Шмидт, можно позавидовать! – заметил Тим, сунув руки в карманы шинели и оглядывая пустой двор, воробьев, сновавших по сваленным в беспорядке вдоль высокой стены административного корпуса напротив доскам и ящикам, видное поодаль низкое и широкое здание тюремного гаража с серой шиферной крышей. – Я-то офицер полиции, а вы переводчик и спокойно присутствуете на любых допросах.
– Я всякое видел в своей жизни, герр комиссар, – ответил Шмидт, отдуваясь и притопывая ногами от холода. – Меня уже мало что пугает.
Из-за дальнего угла административного корпуса вышла группа охранников: пять человек в черных форменных куртках и пилотках – подобных тем, что сейчас носят танкисты, что раньше носили эсэсовцы. Это и была команда D. Охранники вели человека в мятой светлой рубашке и темных брюках – Виктора Очерета, около часа назад допрашивавшегося Тимом. Руки Очерета были так же скованы за спиной.
– Вот, первого партизанчика ведут! – проговорил Тим.
Стуча сапогами по давно не заменявшемуся, потрескавшемуся асфальту, охранники команды D подошли и подвели шатавшегося, но пытавшегося держать осанку прямой, Очерета к Тиму со Шмидтом.
– Добрый день, герр комиссар! – остановившись первым и вскинув руку, поприветствовал Тима командир D, имени которого Тим не знал, но слышал, как подчиненные фамильярно называют его русским словом «Мышонок», что означало «мышка» или «маленькая мышь». Это был человек ростом немного ниже среднего, но широкоплечий и мускулистый, с округлой стриженой головой и бледным широконосым лицом, вероятно, из-за бледности, скрадывавшей лицевые складки, казавшийся моложе своих лет; крупные голубые глаза его постоянно смотрели спокойно, однако за внешней ровностью его взгляда просвечивали хищная жестокость и ненависть, похоже, ко всем встречавшимся на его пути людям. Тиму не была известна биография этого хипо: проверкой местных жителей, поступавших на службу в тюрьму, занимался Майлингер со своей командой, но Тим думал, что не будь этот Мышонок зависим от немецких жалованья и поддержки, он с радостью терзал и убивал бы и немцев. И самого Тима тоже. Мышонок мог вполне удовлетворительно объясняться по-немецки, откуда: Тим тоже не знал, однако немецкая речь этого тюремщика была очень корявой, с дичайшим произношением, которое только более-менее часто работавшие с ним офицеры могли разбирать.
Тим посмотрел на Очерета, которого удерживали под руки двое «D-шников». Комсомолец выпрямил шею и со злобной дерзостью посмотрел на Тима. Нижняя часть его заросшего темной щетиной лица все так же была в крови, уже в основном запекшейся; дувший во дворе сырой холодный ветер шевелил его тоже запятнанную красной кровью рубаху. «Вот тебе и цвет красного флага на последние минуты!» – мрачно подумал Тим, взглянув на кровь.
– Шо, фашист, вовтузытыся набрыдло? – произнес Очерет. – Хочеш покинчиты зи мною?
Не поняв, что сказал подследственный, да и не интересуясь, вероятно, каким-то обреченным издевательством, Тим спросил:
– Ти йешо хочеш мольчат? Или ти будеш говорит? Ми дават тебйе такой Chance. Говори этот минута: да или нет?
– Рви уже скорише, ворожа падаль! – зло проговорил Очерет; Тим услышал, однако, в его голосе нотки тоски и страха. Молодость противоречива: легко кидает к смертельной грани, но и не хочет обрывать только развернувшуюся жизнь.
– Да или нет? – повторил вопрос Тим.
– Нет! – воскликнул Очерет. – Я комсомолец! Советський чоловик! Я – сын Сталина! – большие карие глаза его яростно сверкали. – Убый!.. За мене е, кому помстытыся!..
– Пристегивайте его! – сказал Тим по-немецки.
– Хлопцы, давай! – сказал Мышонок, махнув рукой своим подчиненным.
Охранники, с шипением бранясь на своем языке, отстегнули наручники, сковывавшие сзади руки Очерета, и принялись срывать с комсомольца одежду. Затрещала ткань советской фабричной рубахи, по асфальту покатилась отлетевшая пуговица. Тим шагнул в сторону, давая «D-шникам» с подследственным проход к столбам козырька двери. Хипо сорвали с Очерета и бросили на асфальт рубашку и майку, брюки, короткие белые кальсоны. Раздетого догола, его подтащили к правому металлическому столбу, усадили вплотную перед тем на колени – голыми голенями на твердый холодный асфальт, и, приподняв ему руки по обе стороны столба, снова сковали наручниками. Очерет теперь оказался прикован спереди к металлическому столбу, сидя у того голышом на согнутых коленях. Тим, позвав Шмидта, шагнул к подследственному, держа руки в карманах шинели. Охранники отступили, встав позади допрашиваемого комсомольца неровным полукругом. Очерет сидел у столба, опустив голову; его полностью обнаженное тело было напряжено: вероятно, пока еще не от холода, а от ожидания ударов или еще какого-нибудь физического воздействия.
– У тебя еще есть время подумать, – сказал Тим по-немецки, глядя на всклокоченные темные волосы на макушке и затылке опущенной головы подследственного. – Час – два. Пока не загнешься от холода. Мы не дадим тебе, большевик, умереть так просто. Мы хотим знать, откуда в твоем доме было оружие, кто его принес и от кого. С кем из врагов Германии связаны ты и твоя подруга. Что означает записка, которую мы нашли в ее сумке. Переводите, Шмидт, все в точности!
Шмидт перевел скованному под холодным ветром на коленях у столба, догола раздетому подследственному слова Тима. Тогда Тим продолжил:
– Как только ты назовешь имена тех, от кого к тебе принесли оружие, тебя отведут обратно в камеру, а потом мы уже будем дальше разговаривать. Шмидт!
Шмидт перевел Очерету на украинский язык. Подследственный не ответил, молча сидел, голый, на согнутых коленях перед холодным столбом, к которому был прикован; по его телу в синяках и кровоподтеках, полученных на первом допросе в полицейском управлении, все чаще стала пробегать холодовая дрожь. Тим подумал, что коммунисты все время пытаются идти против природных законов и искусственно перестроить мир, но не могут справиться с естественными природными силами: вот, их «младшй брат» – комсомолец, дрожит без одежды на ноябрьском ветру, и не щадит его природа.
– Ведите женщину! – приказал Тим охранникам.
– Иванову тащите сюда! – сказал своим подчиненным по-русски Мышонок. Двое хипо, приведших сюда Очерета, развернулись и быстрым шагом направились в обратную сторону – за высокое кирпичное здание административного корпуса тюрьмы. Другие двое и сам Мышонок остались, отойдя чуть в сторону и о чем-то беседуя. Тим и Шмидт тоже немного отступили от согнувшегося у столба и дрожавшего голышом от холода подследственного; Шмидт стал смотреть куда-то в сторону, и лицо его сохраняло свое обычное хмуро-равнодушное выражение. Тиму тоже становилось зябко, несмотря на шинель, китель, сорочку и теплую майку под той: влажный воздух, тем более, при ветре, имел свойство легко проникать даже под несколько слоев соответствующей сезонной одежды. Однако необходимо было выжать из этих коммунистических пособников все, что возможно было выжать: чтобы как можно меньше важной для полиции информации они унесли с собой в землю.
– Сколько здесь всякого лома, а Шмидт? – проговорил Тим, глядя на лежавший вдоль кирпичной стены преимущественно деревянный хлам. – Неужели наши хозяйственники не могут придумать, как пустить это все в дело?
– Что? – переспросил Шмидт. – Вы про мусор?
– Да, – сказал Тим. – Хотя бы порубили это все на дрова! Дешевле обошлась бы топка печей, и не пришлось бы часто отвлекать подводы с лошадьми и возниц, доставлять дрова с дальних баз. В этом краю ведь почти нет лесов!
– Не рачительные здесь хозяева! – проговорил Шмидт, поднимая от ветра воротник плаща. – Вообще, ящики обычно делают из хвойных пород, насколько я знаю. А хвойные дрова быстро сгорают. Лучше всего – дубовые.
– Все равно хоть частично этот лом может заменить привозные дрова, – сказал Тим.
– Вы в городе жили, герр комиссар? – спросил Шмидт.
– Родился в деревне, потом мы переехали в Штутгарт, – ответил Тим. – Большой город! Главный город моей земли.
– Вашей земли? – переспросил Шмидт.
– Вюртемберг – моя земля, – ответил Тим. – На юге Германии.
– Ну, и где лучше, по-вашему? – улыбнувшись, спросил Шмидт. – У вас на родине, или здесь?
– Немцу везде своя земля, если он трудолюбив! – также улыбнувшись, сказал Тим. – Здесь скучноватая природа: везде однообразная травяная равнина, очень мало леса. Но почва здесь плодородная, говорят. Река большая – крупные суда по ней ходят. Днепр на Украине больше, конечно.
– Да, Днепр больше! – согласно кивнул Шмидт.
– Вообще-то, я бы съездил на родину! – сказал Тим, в задумчивости посмотрев на дверь в кирпичной стене административного корпуса, через которую они со Шмидтом вышли сюда. – Честно признаюсь вам: я за последние месяцы сильно устал… с командировки на Кавказ. Не могу даже как следует выспаться из-за скверных снов. Может быть… ну, с этой парочкой мы сегодня же или завтра разберемся, потому что чувствую: ничего они нам не скажут, а вот с теми, у кого мы коммунистические газеты нашли, закончить бы дело – и ехать в отпуск. Как вы думаете, Шмидт?
Шмидт пожал плечами.
– Вам виднее, – сказал он. – Вы несете службу.
– Вы тоже несете службу, – сказал Тим.
– Я – только вспомогательную, а вы – основную.
– Да! – Тим вздохнул. – Некогда стало отдыхать, Шмидт, совсем некогда! Каждый день какие-то нападения, диверсии…
Из-за дальнего угла административного корпуса показались возвращавшиеся два охранника, которые вели Марину Иванову со скованными за спиной руками.
– Вот, и девушку ведут! – сказал Тим.
Иванову подвели к Тиму. Девушка – невысокого роста, немного коренастая, зябко поджимала плечи под продувавшим сквозь ее серую кофту ветром, и снова с отчаянным упорством смотрела на комиссара. Холодный ветер, шумевший в ушах, трепал ее длинные и распущенные каштановые волосы.
– Ви йешо будете мольчат? – спросил Тим Иванову. – Или ви будете говорит? Ми дават длйа вас йешо Chance. Йесли ви опйат мольчат – ви будете испитиват очен плёхи́йе страданиэ. Ви говорит нам или нет?
– Я вам все уже сказала! – устало произнесла девушка.
– Пристегивайте ее! – сказал Тим охранникам по немецки.
– Ребята, к столбу! – приказал Мышонок.
– Туда же, – сказал Тим, показав рукой на столб, к которому был прикован Очерет. – Всех рядом.
– Яволь! – произнес Мышонок.
«D-шники» отстегнули наручники за спиной Ивановой и принялись срывать с девушки одежду. Подследственная, вероятно, уже чувствовала себя обреченной, поэтому практически не сопротивлялась, лишь инстинктивно прикрыла руками обнажившуюся грудь. Ветер все колыхал ее густые свободные волосы, и без одежды она напоминала некую мифическую героиню с полотна художника эпохи Ренессанса, готовую сейчас, презрев все, устремиться к своей цели. Тим подумал, что к своей цели эта юная пособница коммунистов сейчас и пришла: скоро умрет за свою любимую партию и ее вождя, и коммунисты то недолгое время, сколько осталось им существовать, наверное, будут почитать ее как героиню. Хипо потащили Иванову к столбу, у которого уже скорчился от холода прикованный Очерет.
– Небось прохладно? – усмехнувшись, спросил ее шедший рядом, наблюдая за действиями своих подчиненных, Мышонок. – Горячая комсомольская кровь не греет?
– Жаль… – выдохнула Иванова, когда охранники силой усаживали ее коленями на асфальт лицом к столбу напротив Очерета.
– Что ты говоришь? – спросил Мышонок, встав над ней и сунув руки в карманы черной куртки.
– Жаль, что такие продажные мерзавцы, как ты, после победы будут больше всех кричать: «Слава Партии!»… «Слава Родине!..»… «Смерть фашизму!»… – пока девушка выговаривала свои слова, охранники наручниками сковывали ей руки впереди столба над руками Очерета. – И не за что будет таких поставить к стенке!.. А надо!.. Ой, как надо!..
– Еще надеешься на победу красных, милочка? – снова усмехнулся Мышонок. – Ну, надейся! С надеждой краше умирать! – и отошел. За ним отошли и приковавшие Иванову к столбу охранники, уступая пространство приблизившимся Тиму со Шмидтом.
– У вас еще есть время подумать, – сказал Тим, глядя на девушку, прикованную к столбу напротив своего сообщника, так же голой и сидящей на подогнутых ногах. Длинные волосы трепались на ветру, скользя по ее рукам, лицу, плечам. – Пока вы не замерзнете тут насмерть, вы можете начать давать правдивые показания. Мы хотим знать, зачем вы пришли на самом деле в квартиру этого человека, который умирает напротив вас. Откуда в вашей сумке была записка находящейся в розыске преступницы, и что она означает. Переводите, Шмидт!
Шмидт перевел Ивановой его слова.
– Я вам все сказала!.. – выговорила прикованная девушка дрожащим то ли от смертного волнения, то ли уже от холода голосом.
– Как только вы назовете имена людей, пославших вас к Очерету и давших вам записку, вас отведут обратно в камеру, – сказал Тим. – И тогда мы с вами будем разговаривать дальше.
Шмидт перевел.
– Я все… сказала… – проговорила Иванова.
Тим шагнул от нее в сторону и приказал хипо:
– Ведите мальчишку!
– Мальчонку тащите! – сказал Мышонок двоим подручным. Те снова зашагали через площадку двора в сторону арестантского корпуса.
Иванова и Очерет сидели, обнаженные, на подогнутых ногах друг против друга, прикованные наручниками к одному металлическому столбу, дрожа под холодным ветром. Одежда их валялась, покачиваясь на ветру, на асфальте. Скованные на запястьях руки их невольно соприкасались. Когда Тим со Шмидтом и хипо отступили несколько в стороны, они вдруг взяли друг друга за кисти рук и тихо обменялись какими-то словами. Что они говорили? Передавали какие-то секреты? Просто поддерживали друг друга в час такой, возможно, кончины? Тим заметил мелькнувшую на секунду улыбку на обращенном к столбу и частично прикрытом растрепанными ветром волосами лице девушки. Но это была не улыбка радости или удовлетворения: она скорее выражала печально-мрачную иронию. Тим предположил, что перед ожидаемой смертью молодые люди подшучивали над собственным весьма неловким и нелепым видом в данный момент, который, будь это сцена из комического кино, вызвал бы у зрителей смех. Однако здесь было не кино, и смеяться было не над чем: были мерзкие военно-полицейские будни, когда Тиму уже в бессчетный раз приходилось глушить в себе чувство не сострадания, конечно, к коммунистическим пособникам, а скорее крайне неприятной отдачи чужих страданий в собственной психике. Тим подумал, являются ли люди с чистым арийским генотипом столь совершенными, чтобы без всяких неприятных чувств уничтожать и подвергать необходимым физическим воздействиям врагов расы и Нации? Наступит ли время, когда в результате расово здоровых браков из поколения в поколение слепота инстинктов полностью отпустит арийцев, и все чувства их будут проявляться только вовремя и к месту?