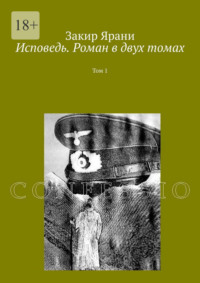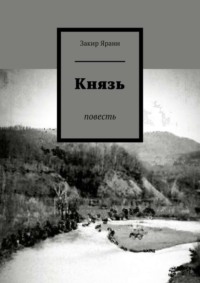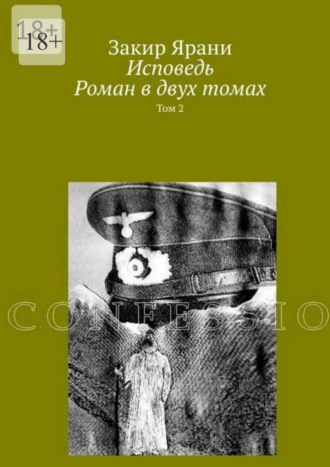
Полная версия
Исповедь. Роман в двух томах
Тим удивился: надо же, местные жители думают почти о том же, о чем и он, только со своей стороны, понятное дело. Сами они догадались о неких планах в руководстве СС, предполагавших переселение большинства славян в Сибирь с целью освобождения земель Восточной Европы для арийцев, или кто-нибудь из недалеких эсэсовцев проговорился им? Или это – результат подпольной агитации: ведь советская разведка могла тоже узнать об этих планах и, несомненно, большевики тогда воспользовались бы этими сведениями в пропагандистских целях. Но Тим не думал, что Анфисе с детьми грозило бы переселение: во-первых, она исправно служила ему – эсэсовцу, офицеру немецкой полиции, а значит, наверняка должна была попасть в списки тех, кому будет позволено остаться, во-вторых же, ее внешность говорила о вероятной высокой доле арийской крови, и впоследствии она могла бы даже стать гражданкой Рейха.
– Я знаю, что вы, господин, даже если бы хотели, не изменили бы ничего: вы просто служащий своей страны, – сказала Анфиса все с той же грустной интонацией. – Но может быть, вы сами… сами для себя подумаете: правильное ли дело вы делаете. Все-таки вы обычный человек, приличный человек, офицер. И я как-то должна отблагодарить вас за вашу… снисходительность ко мне.
– Што ти говориш? – не понял Тим.
– Ваши люди воюют с другим народом, чтобы возвысить свой, – сказала Анфиса. – Неправильно это.
– Ти думат, што ми войеват не правильно? – умехнулся Тим.
– Я не сильно интересовалась такими вещами, – сказала Анфиса. – но кое-что из идей национал-социализма я знаю. Вы думаете, что можно и нужно воевать с другими народами, чтобы свой народ жил хорошо.
– Вот как ти говорит! – произнес Тим. – Собсвений Nation – главни дéлё, не правильно? Руски Nation тоше себйе помогат, длйа другой – потом. И украйнски Nation – тоше. Нет ли?
– Когда своей нации грозит беда, конечно, любая нация будет спасать себя в первую очередь, – сказала Анфиса. – Как и всякий человек сначала думает своем благе, о своих близких, а потом о других людях. Но нападать на другую нацию, чтобы отобрать у нее что-либо для своей – это нечестно и непорядочно. Точно так же, как отбирать что-то у семьи соседа для своей семьи. Различия между нациями не больше, чем между семьями, чем между разными отдельными людьми. Все люди отличаются друг от друга. И один русский от другого, и один немец от другого. У каждого человека своя внешность, свои привычки, свои убеждения. И у каждой нации своя культура, свои обычаи. Но это все не существенно. У каждого человека, у каждой нации есть общечеловеческое, что для всех людей и всех народов одинаково: все одинаково чувствуют, радуются, страдают, любят своих родных и друзей, все хотят добра и справедливости, все хотят счастья, все уважают труд, но и отдыхать любят. Все люди – это люди, телом и чувствами все одинаковы. Вы этого не можете не замечать, господин, но вы так верите тем, кому служите, что не думаете об этом!
– Когда кашди челёвéк думат йево… думаниэ, – произнес Тим, которого уже сильно клонило в сон. – вместо дéлё от слюшба – буде Chaos und Anarchie… У нас биль времйа, што кашди челёвéк, кашди Partei и кашди Land думат што хотет – это времйа, когда йа биль малий… ушасни времйа, хорошо, когда оно кончáт! Ми войеват, брат победа и шит шасйе – это йа знат! – он тяжело поднялся со стула. Голова кружилась и от усталости, и от выпитого шнапса. – Йа работат заутра – йа дольшен спат! Добри ноч! – взяв бутылку со шнапсом, он, превозмогая головокружение, направился в свою комнату.
– Доброй ночи, господин! – так же печально произнесла вслед Анфиса.
13
Сразу после завтрака с товарищами в служебном кабинете, Тим, оставив пока общие дела на Эмана, выехал с Хеллером опять в тюрьму на третий допрос арестованных неделю назад комсомольца Очерета и его подругу Иванову. Ввиду важности дела он взял с собой переводчика ГФП Шмидта, чтобы информация, которая могла озвучиться на этом допросе, не дошла до ушей штатных переводчиков тюрьмы, за чье умение хранить служебные тайны ручаться было нельзя. По пути в тюрьму, снова созерцая из кузова «Фольксвагена» мрачные руины города, накрытые еще и унылой серостью поздней осени, он вспомнил о разговоре со своей квартирной работницей вчера вечером и ухмыльнулся сам себе. Она жалуется на притеснения, а сама вчера наговорила такого, что, будь она немка и в Германии – ее непременно бы арестовали. Тим же снизошел до того, чтобы выслушать ее не вполне благодарные, учитывая, как она жила под его крылом, сетования на немецкую власть, потому что она была местной невежественной украинкой.
Двадцатичетырехлетний Виктор Очерет, уроженец Днепра (Днепропетровска) на Украине, когда-то проходил проверку ГФП как бывший активист Комсомола, однако на допросе, производившемся в конце июля, заявил, что в Комсомол вступали почти все советские молодые люди, а свою личную активную деятельность в главной молодежной коммунистической организации он считает ошибкой. Он утверждал, что коммунистическое руководство при подходе немецкой армии к городу трусливо сбежало, обманув и комсомольцев, и всех трудящихся, поэтому он больше не желает иметь ничего общего с этой партией, и если Германия, действительно, принесет восточным народам достойную жизнь и справедливость, он ничего не будет иметь против власти Рейха и даже готов поддержать. Правда, от предложенного сотрудничества он отказался, прямо сказав, что ему надо убедиться в честности немцев. Тогда его оставили, некоторое время еще негласно наблюдали за ним, но выявить какие-либо проявления антинемецкой деятельности или настроений с его стороны не удалось. Он жил в одной квартире со своим тринадцатилетним братом Евгением: их родители умерли в прошлом году, а средняя сестра – еще раньше. По его собственным словам, именно из-за того, что на его иждивении был младший брат, которого он перед самой войной перевез из Украины в Ростов, его не призвали в связи с войной в Красную Армию, хотя он признался, что до войны прошел в ней службу. В Ростов он попал по направлению работать на сейчас пока не действовавшем машиностроительном заводе «Ростсельмаш». Пока ГФП и вспомогательная полиция наблюдали за ним, Очерет исправно ходил на мобилизационные работы, кроме того, подрабатывал то грузчиком, то садовым работником, то перевозчиком товара для обувного магазина в Нахичевани. В итоге полиция о нем просто забыла.
А тем временем Очерет тайно собрал в своей квартире на 1-й Федоровской улице в юго-восточной части города целый склад оружия для диверсий, под который оборудовал скрытый погреб. Недавно его брат Евгений, от которого он наличие оружия держал в секрете, случайно смог обнаружить вход в погреб, из любопытства заглянул туда и увидел этот арсенал. Виктор настрого запретил брату где-либо что-либо говорить об оружии, но все же мальчик однажды не удержался и в разговоре с приятелем-ровесником похвалился, что скоро они с братом якобы пойдут бить немцев. Приятель Евгения, не восприняв слова того всерьез, рассказал о них ради веселья взрослому соседу – бывшему сотруднику вспомогательной полиции, уволенному за пьянство. Тот, вероятно, желая восстановить свою репутацию, явился в политический отдел хипо и сообщил об известной ему подозрительной реплике соседа-ребенка. Русская полиция произвела в квартире братьев Очеретов обыск и обнаружила тайник с оружием: русскими и немецкими винтовками, пистолет-пулеметами, гранатами, общим числом в пятнадцать единиц, а также патронов на каждые винтовку или пистолет-пулемет в избытке. Братья были арестованы и, поскольку оружие, несомненно, было собрано и передано на хранение старшему Очерету партизанами, их делом занялась ГФП, а именно – команда Тима.
Первый же допрос братьев произвел в полицейском управлении сам директор ГФП, и он же распорядился организовать в их квартире засаду, так как по своему опыту знал, что вряд ли хранитель оружия регулярно контактирует непосредственно с партизанами: скорее всего, связь осуществляется через курьера или курьеров. На удачу особо не рассчитывали, так как партизаны легко могли узнать об аресте Очеретов от их соседей, от своих агентов-наблюдателей или даже от ведших двойную игру русских полицейских. Однако на следующий же день в квартиру арестованных братьев вошла, отперев дверь своим ключом, девушка, которая была тоже арестована. Это оказалась двадцатилетняя Марина Иванова, бывшая работница того же завода «Ростсельмаш», на котором раньше работал Виктор Очерет. При досмотре в ее сумке был обнаружен клочок бумаги с непонятной записью химическим карандашом на русском языке. Прочитавшие записку два переводчика ГФП однозначно заявили, что буквальный текст той не имеет определенного смысла, и скорее всего, это шифровка. Когда же почерк, которым была сделана записка, сличили с образцами почерка находящихся в розыске лиц, выяснилось, что он принадлежит комсомольской активистке Елене Мушикьян, на момент занятия Ростова немецкой армией находившейся в городе по своему местожительству, но затем исчезнувшей.
Поскольку связь старшего Очерета и Ивановой с партизанами была налицо, и сами они казались фанатично преданными Коммунистической партии, первый их допрос проводился директором почти предельно жестко. Братьям Очеретам, чтобы создать впечатление, будто их сейчас же готовы убить, подручные хипо наносили удары обрезками деревянных черенков от лопат и прикладами винтовок, а не плетьми, удары которых хотя были более болезненные, но не могли перебить кость или сразу повредить внутренности. Конечно, хипо старались все-таки не забить до смерти и не искалечить подследственных на первом же допросе: расчет был больше на то, что Очереты устрашатся скорой расправы, так как мучительные, но не смертельные, удары плетей старший брат – коммунистический фанатик, наверняка готов был бы терпеть до бесконечности, а младший, похоже, все равно ничего не знал. Иванову на первом допросе секли плетьми, как обычно было принято, но долго, приведя в чувство алкоголем и продолжая, когда она потеряла сознание. Несмотря на жесткие методы, никакой существенной информации от этих подследственных получить не удалось. Виктор Очерет повторял бессмысленную версию, что склад оружия не его, что кто-то, наверное, соорудил и наполнил погреб еще до того как они с братом вселились в эту квартиру, хотя поселились там они еще до войны, а среди оружия было и немецкое. Евгений плакал и кричал, что погреб с оружием нашел случайно и не знает, откуда оно взялось и кому принадлежит, и что брат ничего ему про оружие не рассказывал, немцев они бить не собирались: просто пошутил он в разговоре с другом. Директор, понаблюдав за поведением младшего Очерета на допросе, предположил, что тот в самом деле не был осведомлен о делах старшего брата, но все же сказал Тиму провести второй допрос мальчика тоже. Иванова отвечала, что пришла к Виктору Очерету как к другу – и только, а откуда взялась записка с почерком Елены Мушикьян в ее сумке и что там написано – не понимает, и с самой Мушикьян не знакома.
Второй допрос подследственных по делу о складе оружия производил уже Тим – в тюрьме, еще не до конца излечившись от тяжелой простуды, но все же собравши силы. Старший Очерет и Иванова дожидались второго допроса в строгих камерах, младшего Очерета же Тим, опасаясь, что малолетний там долго не протянет или впадет в такое состояние, что уже ничего не сможет отвечать, распорядился поместить в обычную одиночную. До второго допроса подследственные еще не видели Тима, и он постарался произвести на них хотя бы нейтральное впечатление, относительно мягко, но настойчиво убеждая рассказать об их связях с подпольем, в особенности, откуда взялось оружие, для чего предназначалось, и что означает найденная у Ивановой записка.
Старший Очерет, наконец, признался, что оружие – партизанское, предназначавшееся для нападений на немецких солдат и полицейских, но утверждал, что тех, кто принес этот арсенал к нему в квартиру, не знает: будто бы подружился с некой компанией, распивая пиво в парке, и кто-то из новых друзей «по секрету» сообщил ему, что является подпольщиком, а затем попросил подержать оружие у Виктора в квартире. И будто потом к Виктору пришли четыре человека, не назвав своих имен, соорудили в квартире погреб и там сложили оружие, после чего ушли, сказав, что придут и заберут, когда будет нужно. Но так больше никто не приходил и оружие не забирал, и тот новый приятель, который якобы договорился с Очеретом о хранении оружия, тоже куда-то исчез, и знал о нем Виктор будто бы только то, что зовут его Ваней. Тим, конечно, не поверил этой донельзя простецкой легенде, но больше от старшего Очерета добиться ничего не удалось.
Младший Очерет на втором допросе повторил то же, что показал на первом: он нашел вход в погреб случайно, разыскивая на полу упавший карандаш, заглянул из любопытства, брат запретил ему говорить кому-либо что-либо об увиденном оружии, чтобы немцы их не убили, а в разговоре с другом Евгений просто пошутил, что они с братом скоро пойдут сражаться с немцами. Да, пошутил под впечталением от увиденного дома оружия, но откуда оно взялось, когда его туда принесли и кто, с кем встречался старший брат, он не знает. Тим, проведя допрос мальчика, согласился с выводами директора о том, что Евгений и в самом деле ничего значимого показать не может, и даже если все-таки видел, как Виктор общался с кем-нибудь из подполья, или как сооружался погреб для оружия, все равно никого не узнает: подходя к своему делу серьезно, старший Очерет старался все держать втайне от младшего, который в силу возраста мог легко где-нибудь проговориться (как в итоге и случилось) или сломаться на допросе.
Иванова на втором допросе продолжала упорно твердить, что не знакома с Мушикьян, не знает, как и где записка попала в ее сумку, и какой смысл содержится в тексте, а к Виктору Очерету пришла просто по дружбе. Тиму было невооруженным взглядом видно, что подпольщица лукавит: она что-то хотела сообщить Очерету, либо, наоборот, получить что-то от него, либо обсудить с Виктором какие-то дела, касающиеся противодействия немецкой власти. Только нельзя было догадаться, связана ли с этим найденная у Ивановой записка Елены Мушикьян.
По очереди допросив тогда подследственных, Тим посоветовал им до следующего допроса хорошо подумать и затем все-таки честно рассказать, с кем они работают, откуда оружие и что сказано в записке. На совещании у директора Тим изложил свои впечатления и соображения. Никто не сомневался, что взломана одна из партизанских ячеек города, совершавшая нападения на немецких солдат и полицию, скорее всего, связанная с Юговым. Но поскольку арестованные ничего не сообщали, невозможно было ни установить оставшихся на свободе ее участников, ни определить, в каком именно районе города она действует или действовала, ни тем более проследить каналы, по которым она поддерживала связь с головной частью подполья. В итоге директор сказал, что времени на долгую раскрутку подследственных нет, так как в городе продолжается партизанская активность, старший Очерет и Иванова, несомненно, являются коммунистическими фанатиками, которые в ближайшее время не захотят давать никаких показаний, а младший Очерет в самом деле ничего не знает. Директор предписал Тиму на третьем допросе либо добиться от старшего Очерета и Ивановой показаний, если это все-таки окажется возможным, либо составить официальное заключение, что они являются злостными приверженцами коммунистических идей и ненавистниками Рейха, которые, несмотря ни на что, не будут оказывать помощь розыску своих сообщников.
И вот, теперь Тим отправлялся на третий допрос арестованных по делу о складе оружия. Проехав снова под массивной и мрачной аркой тюремных ворот, Хеллер припарковал «Фольксваген» в кармане переднего двора тюрьмы точно на том же месте, где и вчера, когда Тим приезжал допрашивать «газетчиков». Выйдя из автомобиля, Тим и переводчик Шмидт направились к узкой двери комендантского корпуса.
Обменявшись приветствиями со стоявшими в помещении у ведущей наверх лестницы тремя офицерами тюремного персонала, Тим и Шмидт поднялись в кабинет коменданта, при входе перекинувшись с сидевшим за своим столом перед ворохом деловых бумаг адъютантом словами о крайне неприятной сырой и ветреной погоде здешней осени. Комендант тюрьмы встретил их улыбчиво, сообщив, что вчера вечером изъявил желание дать признательные показания один из арестованных по делу о поджоге состава с предназначенным для вывоза на волжский фронт углем у поселка Кириловский.
– Очень хорошо! – сказал Тим, хотя это дело расследовал прибывший два месяца назад в Ростов вместо переведенного в Поволжье Циммермана комиссар Функ. – Вряд ли он выведет нас на верхушку их организации, но все-таки… если мы установим его непосредственных сообщников – еще одно щупальце у этой гидры будет обрублено.
– Присаживайтесь! – пригласил их комендант. Тим и Шмидт, поместив свои шинель и плащ на вешалку в углу кабинета, сели на стулья возле комендантского стола. Комендант сел за стол в свое кресло, над которым на стене возвышался большой портрет Фюрера.
– Вот указание моего шефа, – сказал Тим, извлекши из портфеля распечатанное постановление директора о проведении допроса Виктора Очерета и Марины Ивановой с применением любых мер, способствующих даче ими откровенных показаний. Фактически это означало разрешение вытягивать из несговорчивых подследственных показания как угодно, пока они не расскажут все, что им известно, либо не умрут. Комендант тюрьмы по своему обыкновению внимательно прочитал постановление, затем вернул Тиму и сказал:
– Ну, что вы собираетесь предпринимать?
– Я сейчас еще раз попытаюсь поговорить с ними по-хорошему, – ответил Тим, убирая листок обратно в портфель. – Ну… если будут молчать, давайте их купать. Пока или они не начнут говорить, или языки у них не закостенеют.
– А если все равно не заговорят? – спросил комендант, улыбнувшись.
– Тогда мы будем считать их кончеными коммунистами, – сказал Тим. – и пусть отправляются в ров.
– Ладно, ваши клиенты – ваша воля! – сказал комендант. – Вызывать их?
– Конечно, – сказал Тим. – К чему рассиживаться?
– Вторая допросная камера вас устроит? – спросил комендант, снимая трубку телефона внутренней связи.
– Да, – кивнул Тим. – Первым давайте старшего Очерета… А младший нам уже не будет нужен, наверное.
– Хорошо, – сказал комендант…
Через несколько минут Тим уже сидел за столом в полусумрачном помещении допросной камеры, а на стуле рядом расположился Шмидт. Скрипнула тяжелая металлическая дверь, и два охранника ввели в помещение Виктора Очерета. Подследственный – молодой мужчина довольно высокого роста, со сбитыми темными волосами и крупными карими глазами, ступал не очень ловко, но не волочился на руках конвойных, как в день второго допроса. На его широко-овальном лице – бледном, но все же уже более румяном, чем в прошлый раз, поросшем густой темной щетиной, пестрели пятна синяков и засохшей крови, на губах чернели шрамы от ударов. Конвойные усадили Очерета на стул перед столом, за которым Тим от нечего делать постукивал обратным концом ручки по чистому листу бумаги, завели за спинку стула руки и застегнули на запястьях наручники. После чего вышли из камеры. Снова скрипнула и грохнула, захлопнувшись, стальная дверь, лязгнул запираемый замок.
На некоторое время в допросной камере повисла мрачная тишина, только Тим все постукивал ручкой по столу через лежавший на том лист бумаги. Затем Тим многозначительно посмотрел на равнодушно смотревшего в крышку стола подследственного и спросил:
– Ви думали о моихь слёвáх? Ви имели много времени. О, ви севоднйа имет боле хороши состойаниэ от наш биуши разговор! Ви боле здорови!
Очерет поднял глаза на Тима и произнес:
– Я все вам сказав, начальник! – и криво усмехнулся побитыми губами.
– Ви нам не всйо говорит! – сказал Тим, снова опустив глаза в чистый лист бумаги, будто вычитывал оттуда что-то важное. – Йа дольшен известит вас, што о вас делано решениэ от управлениэ полицийа. Йесли ви севоднйа не будете говорит мне всйо чесно – ви будете уничтошен как враг длйа Germania, – Тим снова посмотрел на скованного наручниками на стуле Очерета – в упор. – И ви, и ваш… ваша подруга, и ваш брат! – Тим выразительно кивнул. – Ваш брат тоше знат об орушийе, но не сказат полицийа!
– Он дитё, як он миг донесты до полиции! – проговорил Очерет, казалось бы, ровно, но Тим уловил в интонации подследственного отчаянные нотки. Вероятно, Очерет надеялся, что его малолетний брат все-таки будет пощажен, но в то же время был твердо настроен никакой информации не сообщать. – Он не знае же, де полицейский участик!
– Этот вопрос йа не решат, – сказал Тим. – Этот вопрос решон управлениэ. Но ви йешо мошете спасат себйа и ваш брат… Будет или нет шит ваша подруга – это она решат: она буде говорит – будет шит, она тоше преступник. А ваш брат ви мошете спасат.
– Нет, – сказал Очерет. – не можу! Я усе вам рассказав, а вы не вирите. Брехаты я не буду!
– Ви обманиват нас! – сказал Тим. – Ваш расказ йест Fantasie. О немци не надо смейаца! Ви чесно говорит нам: откуда орушийе, кто орушийе класт ваш Quartier, откуда писмо, и што значит Text от это писмо. И ми не убиват вас и не убиват ваш брат.
Очерет молчал, безучастно глядя куда-то в сторону. По его покрытому щетиной и кровоподтеками болезненно бледному лицу время от времени пробегала мелкая дрожь.
– Объясните ему, Шмидт, что его выгораживание своих сообщников не стоит таких жертв! – обратился Тим к переводчику по-немецки. – Он надеется, что Красная Армия и большевики вернутся, но надеется зря! Сталинград уже в наших руках, нам осталось подтянуть резервы – и мы перейдем Волгу, тогда всему этому большевистскому государству конец. На Кавказе красноармейцы тоже скоро вымерзнут в горах полностью: уже зима вот-вот начнется. Зря он верит лжи большевиков: они пытаются спасти себя, поэтому делают всё, чтобы убедить свой народ по эту сторону фронта нападать на немцев, надеются задержать продвижение нашей армии. Но это пустые надежды, просто утопающий хватается за каждую соломинку! Мы уже почти прижали Красную Армию к Уралу! Куда ей отходить, где закрепляться? В Сибири, где вся армия погибнет в первые же морозы? Этот человек сейчас принесет в жертву и себя, и своего брата-ребенка, но ничего не изменит этим! Дело коммунистов проиграно, когда они погибнут – это лишь вопрос времени… да буквально месяцев, я думаю! Объясните, Шмидт!
Шмидт стал переводить Очерету, – Тим заметил: на украинский язык. Очерет ответил:
– Ну, якшо так… Тоди нехай убывають и мене, и брата! Краше, ниж житы в ихньому… царстви тьми.
– Не надо этого трагизма! – сказал Тим, глядя на подследственного, по-немецки. – Переводите, Шмидт! Вы можете жить спокойно и мирно, воспитаете вашего брата по-человечески. Мы не враги вашим людям. Сейчас идет война, поэтому сейчас трудно. Но когда мы покончим, наконец, с большевизмом, все устроится. Все будут честно жить и честно работать, получая честный доход от своей работы. Кто захочет – снова возьмется за плуг, кто захочет – пойдет на завод… мы все заводы обязательно заново отстроим: нашему Рейху нужна промышленность… Вы не видели, какие мощные заводы и фабрики работают в Германии и Польше. Мы хотим, чтобы и здесь работала такая же мощная индустрия. А кто желает – может даже помогать нам очищать от врагов естественного порядка остальной мир… СС готовы принимать в наши дивизии всех способных и желающих сражаться людей, из любого народа. Расскажите нам: кто принес в ваш дом оружие, кто руководит вашей группой, и что написано на бумажке, которую наши люди нашли в сумке вашей знакомой Ивановой. И живите вместе с вашим братом спокойно.
Шмидт перевел.
– Комсомол своих людей не продае, – ответил Очерет. – Не прынесете вы нам щастя. Убьете нас як несчастных евреив. Мы для вас – вторые люди, навроде дикунив. Хочете, шоб мы як худоба на вас працювали задарма и мовчали. Убывайте уже!
– Ми убйом! – сказал Тим. – Но это глюпо! Seien Sie vernüftig!
– Комиссар прóсить вас бути розсудлывым! – сказал Шмидт.
– Я розсудлывый! – ответил Очерет. – Я знаю, шо прыреченый… Я знаю, шо вы хочете заволодиты всим у мойий крайины, а нас зробыты дешевою робочою силою… навить без капиталу… хочете зробыты нас неграми-рабами… Убывайте! Якшо вы мене не убьете – я буду убываты вас!.. Як тилькы зможу!.. – и, вызывающе-злым взглядом посмотрев на Тима, ощерился частично выбитыми на первом допросе зубами. Нет, этого человека нельзя было сломать в короткие сроки! Тим все же решил прибегнуть к еще одному блефу:
– Ви хочете умират здес? – произнес комиссар, с ухмылкой взглянув в сторону стальной двери. – Мошет бит, ви хочете умират возле ваши друзйа большевики? Ми это делат мошем, – и обратился по-немецки к переводчику:
– Скажите ему, Шмидт, что он может умереть вместе со всеми своими коммунистами в Сибири, куда мы скоро выдавим их… навсегда с цивилизованного Европейского континента.
Шмидт перевел подследственному. Тот мрачно усмехнулся, сильно дернув плечами.