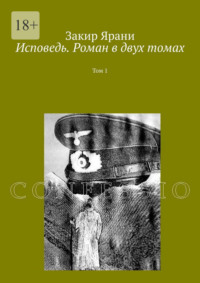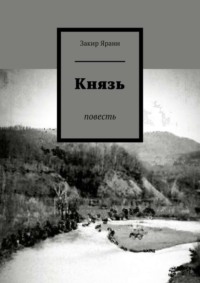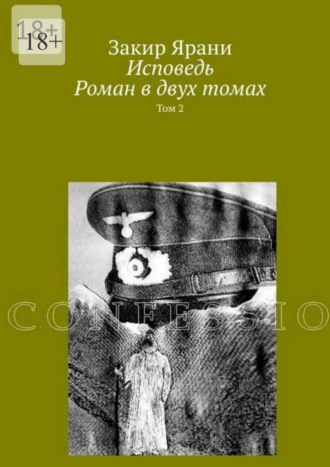
Полная версия
Исповедь. Роман в двух томах
Тиму пришлось достать из кармана шинели носовой платок: от долгого стояния на холодном ветру начал течь нос. Сломит ли все-таки холод этих комсомольцев? Или они в самом деле умрут здесь либо закоченеют до такого состояния, что не смогут ничего говорить? Как быстро холод сделает свое дело? У Тима было много работы в полицейском управлении. А ждать придется до конца: если он составит отчет о невозможности добиться показаний от этих подследственных в короткие сроки, в то время как они, может быть, и способны все же в конце поддаться, это, во-первых, будет недобросовестно, во-вторых, плохо скажется на репутации ростовской ГФП.
Из-за угла административного корпуса показались возвращавшиеся хипо, которые вели младшего Очерета тоже со скованными за спиной руками. Мальчик шел, широко вышагивая, подстраиваясь под темп ходьбы своих конвоиров, иногда поглядывая то в одну, то в другую сторону. Когда же они приблизились, он увидел прикованных к столбу козырька обнаженных людей и недоуменно уставился на них такими же большими, как у его брата, карими глазами. Старший Очерет сидел у столба к нему частично боком, частично спиной, опустив голову, поэтому он, должно быть, сразу не узнал брата. Волосы младшего, тоже темные, были коротко острижены, поэтому на ветру не трепались, но уши наливались от холода бледной краснотой.
– Пристегивайте! Туда же! – распорядился Тим, указав на столб, к которому были прикованы старший Очерет и Иванова.
– Давайте, ребята! – сказал Мышонок подчиненным. Хипо-конвоиры отстегнули наручники на руках младшего Очерета, другие двое принялись срывать с мальчика темно-коричневую сорочку, брюки, затем нижнее белье, обнажив худенькое, еще детское тело. Мальчик воскликнул: «Зачем?!», но не решился сопротивляться, так как после первого допроса и нескольких дней жесткого тюремного режима, несомненно, боялся вызвать раздражение полицейских. Побросав одежду подследственного снова на асфальт, «D-шники» подтащили догола раздетого ребенка к тому же столбу, у которого корчились и тряслись от холода тоже полностью обнаженные его старший брат и подельница того, усадили коленями на асфальт сбоку и так же пристегнули руки по обе стороны столба наручниками, после чего отошли.
– Витя!.. – воскликнул мальчик, повернув голову и увидев прикованного возле себя старшего брата.
– Тихо, братику!.. – прерывисто выдохнул, все больше мучительно скорчиваясь от холода голым телом, старший Очерет. – Тихо: нимци тут!..
Мальчик замолчал, с растерянностью и ужасом глядя на брата и даже не обращая внимания на дрожавшую тут же прикованной и обнаженной Иванову. После смерти родителей старший брат заменял ему отца, скорее всего, казался самым сильным на земле, и теперь ему, без сомнения, жутко было видеть Виктора прикованным на коленях, совсем без одежды, наручниками к столбу, мучающегося от жестокого холода, с лицом, залитым кровью. А рядом стояли и равнодушно болтали между собой надменные охранники в черных куртках и пилотках, против которых старший брат ничего не мог поделать, не мог защитить и себя самого.
– Брáухэн зи вáсэ? – спросил Тима Мышонок.
– Да, воду несите! – сказал Тим, кивнув.
Затем он, поманив Шмидта, снова подошел к прикованным голыми на коленях у столба троим подследственным.
– Если хоть вы, Иванова, – заговорил он. – хоть ты, Очерет, ответите на вопросы, которые мы уже несколько дней вам задаем, я прикажу отвести мальчика в камеру… Ну, соответственно, и того, кто из вас заговорит – тоже. А кто будет молчать – тот здесь замерзнет насмерть. Переводите, Шмидт!
Шмидт перевел его слова на русский.
– Хотя бы кто-нибудь из вас пусть пожалеет ребенка! – сказал Тим. – Иначе он умрет вместе с вами! Если вы будете молчать, мы не оставим его в живых, потому что он уже большой, и его не перевоспитать. Он будет мстить за вас нашему народу.
Шмидт перевел. Подследственные не ответили. Старший Очерет и Иванова тряслись побелевшими телами от холода, прерывисто и шумно выдыхая воздух; младший Очерет, еще не успевший сильно замерзнуть, мелко дрожал, может быть, не только от холода, но и от страха, поджимая тонкие голые плечи, и смотрел с ужасом то на брата, то в холодный металл столба.
– Очерет, ты довел брата до тюрьмы, – сказал Тим. – Твои родители, будь они живы, радовались бы этому? Хотя бы сейчас спаси его.
Шмидт перевел на украинский.
– Он… – выговорил старший Очерет, стуча зубами и опустив лицо чуть не к асфальту. – он… уже… урятованый… Не житы ёму пид вами… Душогубы… Рабовласники…
– Говорит, что его брат не будет жить под властью немцев – и это хорошо, – пояснил Тиму Шмидт.
– Ну, ладно! – сказал Тим и вновь отошел в сторону.
Трое хипо, поджимая от напряжения губы, притащили по два металлических ведра с холодной водой, которые поставили возле прикованных к столбу подследственных. Освободившись от ноши, один из охранников принялся потирать пальцы рук, проговорив:
– Тяжелые, заразы! Чуть руки не перетерло!
– Перчатки надо было надевать, – сказал ему Мышонок и шумно высморкался в асфальт. Его бледное лицо на холоде стало розово-белым.
– Ну, что встали! – крикнул Тим, раздраженный нерасторопностью «D-шников». – Лейте!
– Не спать! – крикнул по-русски Мышонок. – Лейте! По ведру на каждого!
– Есть! – произнес один из охранников и, нагнувшись, поднял ближайшее к нему ведро обеими руками. Затем, шагнув к замерзавшему голым у столба старшему Очерету, шумно вылил холодную воду тому на голову и спину. Очерет содрогнулся как удара током, завалился набок, насколько позволяли скованные у столба руки, и судорожно задвигал левой ногой. Другой охранник, схватив другое ведро, подошел сзади к младшему Очерету и вылил воду на голову и спину мальчика. Раздался мучительный крик того. Третий «D-шник», обойдя с натужно поднятым ведром братьев Очеретов, так же облил холодной водой Иванову. Девушка коротко вскрикнула. Хипо ставили с металлическим грохотом опустевшие ведра на асфальт.
– Идите наполняйте! – крикнул им Мышонок. – Да что с вами! Первый день работаете?
Прихватив по пустому ведру, трое охранников снова удалились за водой. На асфальте остались стоять еще три наполненных водой ведра и лежала вразброс колыхаемая ветром одежда подследственных. Сами подследственные корчились и дрожали, согнувшись у столба, вода, ускорявшая на холодном ветру теплопотерю, блестела на их телах. Кто-то: то ли мальчик, то ли девушка, звучно и судорожно дышал, будто прерывисто скулил.
– Через десять минут – еще по ведру! – сказал Тим Мышонку, указывая рукой на оставшиеся ведра и на подследственных.
– Яволь! – ответил Мышонок, кивнув, и заложил руки за спину.
Через некоторое время ушедшие трое охранников возвратились, притащив еще по два ведра с водой. Лязгая металлом ведерных днищ, они поставили принесенные ведра рядом с тремя другими. Затем отошли к Мышонку и, негромко переговариваясь о каких-то своих делах, задымили папиросами.
– Я замерзаю… – послышался неровный тонкий голос мальчика.
– Потерпы… скоро все скинчиться… – прерывисто и хрипло выдохнул старший Очерет. – Мало уже лышилося, братику!..
– Я руки перестаю видчуваты… – произнес младший Очерет.
– И добре… – ответил старший брат. – Не видчуваеш – отже, не болять оны… Я тут, не бийся…
Взглянув на наручные часы, Мышонок сказал подчиненным:
– Давайте еще по ведру им!
Трое хипо, подойдя к ведрам, подняли по одному, подступили к скованным и обнаженным подследственным и принялись снова лить на тех холодную воду. Под шумный плеск льющейся воды послышались громкие стоны мальчика и девушки.
– Через десять минут – следующие! – сказал Тим, посмотрев на Мышонка.
– Яволь! – ответил тот, кивнув.
Выждав пару минут, Тим, ступая по мокрому от воды, разлившейся вокруг столба с подследственными, асфальту, подошел к старшему Очерету. Тот, совсем побелевший от холода, практически лежал на асфальте лицом вниз, вытянувши скованные у столба руки и согнув ноги. Вода блестела на его теле, капала с мокрых волос. Тело его, бледное, будто обескровленное, коротко вздрагивало. Тим ткнул его носком сапога под мышку. Очерет не отреагировал и не пошевелился. Тим поманил рукой Мышонка. Тот подошел, звучно стукнув сапогами по мокрому асфальту.
– Ти и дале мольчат? – обратился Тим к Очерету по-русски. – Ти так будеш мольчат на всйо времйа!
Очерет не отвечал, только шумно выдыхал воздух – не то со стоном, не то с хрипом.
– Ти мольчат… – произнес Тим и посмотрел на Мышонка.
– Поработайте вашим ножом! – сказал он по-немецки.
– Яволь! – произнес Мышонок и, шагнув к Очерету, достал из ножен на поясе кинжал. – Что делать?
– Вам лучше знать, – сказал Тим, отступив на шаг назад. – Делайте так, чтобы кровью здесь не истек. И чтобы мог говорить. Остальное – неважно.
– Можно ему ухо отпилить? – спросил Мышонок по-русски, посмотрев на Шмидта. Переводчик ответил ему:
– Вы знаете свою работу – вот и выполняйте! Как всегда.
– Понял! – кивнув, сказал Мышонок, нагнулся с кинжалом над Очеретом, придавил того в голую спину коленом, схватил за волосы, прижал головой к столбу и к асфальту и, плотно стиснув зубы, с остервенелым выражением лица принялся отрезать комсомольцу ухо. Очерет издал не то слабый вскрик, не то громкий стон и зашевелился обнаженным телом на асфальте, но сильно не дергался, так как уже глубоко закоченел. Возможно, он уже и боль чувствовал не слишком сильно. Мышонок убрал ногу с его спины и выпрямился, отдуваясь, держа в руке кинжал, на лезвии которого краснела кровь. Кровь, вытекая из оставшегося обрезка уха, растекалась и по правой стороне головы Очерета. Тим невольно передернул лопатками и раздраженно проговорил, обращаясь к Мышонку:
– Вы что встали? Видите, на него это плохо действует!
– Энчульдигун! – сказал Мышонок и, шагнув вдоль лежавшего на асфальте голого тела подследственного, снова наклонился возле столба, схватил Очерета за большой палец одной из скованных наручниками рук, оттянул тот и принялся, издавая напряженное ворчание, отрезать. Очерет застонал и задергался, но не настолько сильно, чтобы мог оттолкнуть Мышонка, затем вскрикнул. Мышонок возился, злобно бранясь по-русски и пачкая в крови собственные пальцы. Тут задергался младший Очерет, который, хотя тоже уже сильно закоченел на холоде, увидел, что делает с его братом Мышонок, поскольку тот отрезал старшему брату палец буквально у него, прикованного к тому же столбу, перед глазами. Мальчик, издавая отчаянные стоны, принялся подкидывать свои скованные вокруг столба руки, пытаясь толкнуть ими нависавшие сверху руки Мышонка, и даже смог привстать.
– Пусты ёго, суко!.. – выдохнул он. Мышонок, разразившись громкой руганью, выронил окровавленный кинжал, который зазвенел по мокрому асфальту. Обернувшись, хипо наотмашь ударил младшего Очерета кулаком в голову; мальчик рухнул перед столбом, к которому был прикован, и, дрогнув голыми ногами, затих. Подобрав кинжал, Мышонок продолжил возиться с окровавленным пальцем старшего подследственного, а отрезав, со злостью отбросил в сторону. Переводчик Шмидт в это время стоял с непроницаемым лицом и смотрел куда-то в глубь двора. Тим снова шагнул к лежавшему у столба старшему Очерету и яростно пнул его сапогом в голый бок, после чего, наклонившись, крикнул над его мокрой головой:
– Говори!
Очерет тяжело пошевелил окровавленной головой без уха и будто выдавил из себя слова через оскаленные в мучительной гримасе зубы:
– Здохнеш ты за мною… гад…
Выпрямившись и снова отступив, Тим посмотрел на стоявшего рядом с окровавленным кинжалом Мышонка и сказал:
– Повторите с женщиной!
– Вас?.. Гер?.. – переспросил тот.
– Господин комиссар говорит вам, чтобы вы то же самой проделали с женщиной! – сказал Мышонку по-русски, развернувшись с руками в карманах плаща, Шмидт.
– Яволь! – с готовностью ответил Мышонок, лицо которого от напряжения и возбуждения стало из бледно-розового почти пунцовым. Перешагнув через лежавшего на асфальте, трясясь голым телом от холода, младшего Очерета, он остановился за спиной Ивановой, нагнувшись, схватил девушку за густые каштановые волосы, прижал ее голову к асфальту и принялся отрезать кинжалом ухо. Девушка протяжно закричала: не очень громко, но страдальчески.
– Не нравится, да, большевистская дрянь!.. – бормотал Мышонок, орудуя кинжалом. – Лапулечка красная… К стенке, говоришь!.. Вот тебе и стенка…
Отрезав подследственной ухо, он, выпрямившись, перевел дыхание, после чего снова нагнулся и принялся отрезать ей большой палец на правой руке. Иванова на этот раз не издала какого-либо звука и не дергалась: должено быть, потеряла сознание. Мышонок выпрямился, опустил руку с кинжалом, с лезвия которого капала кровь, и, посмотрев на Тима, сказал на ломаном немецком:
– Уха нет, пальца нет… Что еще убрать?..
– Ничего пока, – ответил Тим. – Лейте воду на них.
– Хлопцы! – крикнул Мышонок подчиненным охранникам. – Воду!
Трое хипо подошли к ведрам с водой, взяли по одному и снова принялись выливать на обнаженных и закоченевших от холода подследственных. Иванова, придя от окатившей ее ледяной воды в чувство, застонала. Тим подступил к ней и, глядя сверху вниз на ее мокрую голову с окровавленными каштановыми волосами, сказал:
– Говори! От ково писмо сумка? Зачем ходиль дом у Очерет?
Девушка только тяжело дышала и стонала, лежа на асфальте перед столбом, к которому была прикована за руки, и безумным взглядом смотрела куда-то вбок. Тим со злостью ударил ее сапогом в голую грудь один раз и другой. Девушка при каждом ударе издала охающий стон, но ничего не произнесла. Оставив ее, Тим подошел к лежавшему рядом, слабо вздрагивая голым телом, старшему Очерету, ударил того носком сапога по окровавленному лицу. Очерет приоткрыл глаза, в которых уже не читалось никакого выражения, и взглянул на Тима.
– Шмидт! – подозвал Тим переводчика. Тот молча подошел. – Спросите его, мне что, теперь приказать его брату отрезать ухо и палец?
Шмидт перевел на украинский. Очерет, похоже, уже забывался от холода и шока, поэтому ответил не сразу, а сначала пробормотал что-то несуразное. Затем все же слабым бесцветным голосом выговорил:
– Прокляття на вас… убывци… Хай живе Батькивщина… Хай живе Партия… Червоний Армийи слава…
– Большевистский ублюдок!.. – выругался Тим и с силой ударил Очерета сапогом по губам; кровь хлынула из разбитого рта комсомольца на уже окровавленный асфальт. Вместе со словами выплевывая ее, Очерет промычал:
– Слава ридному Сталину… Радянська влада непереможна…
Тим, развернувшись, отошел от столба с подследственными. За ним отошел и Шмидт.
– Гер! – послышался вслед голос Мышонка.
– Что? – спросил Тим, обернувшись.
– Что делать? – спросил командир «D-шников», стоя с окровавленным кинжалом уже возле лежавшего, завалившись обнаженным телом набок и поджав ноги, младшего Очерета.
– Пока ничего, – ответил Тим. – Через десять минут обольете их водой опять, – как всякий военный полицейский, он мог выключать восприятие чужих страданий и причинять их, кому было нужно, в любой степени, которая требовалась для достижения служебной цели, для победы. Но свой порог жестокости у него тоже был, и он не собирался увечить еще и ребенка, когда полезный результат от этого выглядел, судя по всему, маловероятным.
– Яволь! – ответил Мышонок и, перейдя снова к своим стоявшим чуть в стороне, наблюдая за происходящим, подчиненным, сказал троим из них, тыча в каждого пальцем левой руки:
– Ты, ты и ты – шнэле за водой!
Подхватив громыхавшие пустые ведра, трое хипо направились через двор за водой. Мышонок, присев на корточки возле сброшенной на асфальт одежды подследственных, приподнял то ли кофту, то ли рубаху и принялся ею вытирать от крови лезвие своего кинжала.
– Пойдемте погреемся, Шмидт! – сказал Тим. – Я на этом ветру продрог почти как эти коммунистические недоросли!
– Пойдемте! – согласился Шмидт.
Перейдя двор, они вошли в относительно прогретое здание административного корпуса и поднялись в по-настоящему теплый кабинет коменданта тюрьмы. У коменданта сидел один из его заместителей, но как оказалось, деловой разговор уже был окончен. Тим и Шмидт, присев прямо в верхней одежде на стулья у стены, присоединились к компании. Желая хотя бы на несколько минут полностью отвлечься от служебных дел, офицеры погрузились в обсуждение особенностей предпринимательства и условий для того в разных городах и землях Отечества. Вскоре Тим согрелся и расстегнул шинель. Переводчик последовал его примеру, расстегнув свой плащ.
– А мой дядя в Киле обанкротился, – проговорил, продолжая тему обсуждения, коснувшуюся Кильского институа мировой экономики, заместитель коменданта. На его руке поблескивал тонкий позолоченный браслет часов. – Из-за нещадных процентов. А инфляция тогда известно какая была: чтобы эти проценты заплатить, ему надо было вагон ассигнаций прикатить к банку.
– Чем он занимался? – спросил Тим.
– Держал веревочную фабрику, – ответил заместитель коменданта тюрьмы. – Это же город флота: там на веревки большой спрос… но вот… дяде не повезло.
– Вот вам и экономический университет, – проговорил задумчиво комендант, постукивая карандашом по своему столу.
– Институт, – поправил его заместитель.
– Институт, – повторил комендант.
– Ваш дядя жив? – спросил Тим заместителя коменданта.
– Да, – кивнул тот. – Живет на пенсии. Там же, в Киле. Пьет по утрам молоко с медом.
– Зачем? – поинтересовался Тим.
– Считает, что молоко и мед на завтрак – лучшее средство для поддержания здоровья, – улыбнулся заместитель коменданта.
– Вполне обоснованное мнение! – заметил комендант.
– Мне приходилось в детстве доить корову, – сказал Тим, усмехнувшись. – Трудное занятие, я фермерам не завидую!
– Ваши родители владели фермой? – спросил комендант.
– Нет, – Тим покачал головой. – Но некоторое время пришлось жить на ферме одного… знакомого, – Тим не смог придумать другого нейтрального слова, чтобы обозначить Фольхарта, которого и покойного было мерзко вспоминать.
– Ферма – это отлично! – произнес комендант, откинувшись на спинку своего кресла и заложив за голову руки. – Свежий воздух, зелень, птички по утрам!
– Да, такое есть! – согласился Тим.
На столе коменданта тюрьмы зазвонил телефон внутренней связи. Комендант снял трубку и поднес к уху.
– Слушаю! – сказал он. – Да, пусть войдет! – и положил трубку.
Дверь кабинета отворилась, вошел офицер в погонах унтерштурмфюрера с какими-то бумагами.
– Хайль Гитлер! – поприветствовал он присутствующих, вскинув руку.
– Хайль Гитлер! – ответили на его приветствие все. Унтерштурмфюрер подошел к сидевшему за столом коменданту и принялся говорить что-то о коридорах, лестницах и решетках, вероятно, тюремных, по одной кладя перед шефом бумаги на стол.
– Да, понимаю, – произнес комендант, просмотрев сначала одну бумагу, потом другую. – Это тоже ясно… А что же, Бовеншульте не может найти людей, чтобы там еще один пост разместить?
– Он говорит, это возможно только если сократить внешние караулы, – ответил унтерштурмфюрер. – Он боится рисковать в такой обстановке, как сейчас. Партизаны все более дерзкие каждый день.
– Он всерьез думает, что партизаны отважатся напасть прямо на тюрьму?
– Не знаю, герр гауптштурмфюрер, спросите его сами. Но он опытный человек, говорит, что крупные нападения могут начаться со дня на день.
Комендант тяжело вздохнул.
– Вот, товарищ соплеменник из ГФП, что происходит! – произнес он, взглянув на Тима, затем макнул ручку в чернильницу и что-то стал подписывать в бумагах, которые ему принес унтерштурмфюрер. – Партизаны, по мнению нашего опытного товарища, могут угрожать тюрьме!
– Мы делаем все, что в наших силах, – холодно ответил Тим. – Ваш опытный товарищ, я думаю, преувеличивает: для нападения на тюрьму в любом случае нужна очень большая боевая группа, которая не сможет затеряться в городе. А вокруг города – открытая равнина на десятки километров, им просто некуда будет отступать. Даже если вы снаружи оставите тюрьму вовсе без охраны, тех людей, которые находятся на постах внутри корпусов, наверняка будет вполне достаточно, чтобы партизаны не решились сюда сунуться. Разумеется, если не сносить стену вокруг тюрьмы: чтобы убегать отсюда было затруднительно, – он усмехнулся.
– Ладно, это пусть так, – сказал комендант унтерштурмфюреру, возвращая бумаги. – А о площадке в третьем корпусе я подумаю, как сделать.
Взяв у начальника документы и на прощание вскинув руку, унтерштурмфюрер вышел из кабинета. Почти сразу снова зазвонил телефон внутренней связи.
– Слушаю! – сказал комендант, подняв трубку. – Да, сейчас он выйдет! – и, повесив трубку, обратился к Тиму:
– Сюда пришел командир отряда D. Он там – за дверью, дожидается вас.
– Благодарю! – сказал Тим, поднимаясь со стула. – Пойдемте, Шмидт, что-то важное произошло, – и направился к выходу. Шмидт, тоже встав и одернув на себе плащ, направился следом.
Тим думал, что же там: кто-то из подследственных дал показания, или наоборот, отключился от холода и ран, и уже ничего не может сказать, или вовсе умер? За дверью в приемной возле стола, за которым сидел адъютант, стоял Мышонок, глядя на вышедшего из комендантского кабинета Тима спокойно, но с некоторым подобострастием.
– Что случилось? – спросил Тим, подходя к нему.
– Эти люди, – стал объяснять Мышонок на своем неказистом немецком, жестикулируя руками. – Не имеют чувство…
– Они потеряли сознание? Шмидт, спросите его.
Шмидт перевел.
– Да, – кивнул Мышонок. – И мы не можем… ничего…
– Тогда уберите их в их камеры! – сказал Тим. – Пусть хоть погреются… перед концом.
– Яволь! – сказал Мышонок и направился к выходу.
– Пойдемте, Шмидт! – сказал Тим и мимо переводчика зашагал обратно в кабинет коменданта.
– Что произошло? – спросил комендант, когда они с Тимом вернулись.
– Не говорят эти недокоммунисты ничего! – с раздражением произнес Тим и, сняв шинель, повесил ее на крючок вешалки. – Будем писать, что ничего мы не добились, – подойдя к стоявшему на стуле своему портфелю, он расстегнул тот и извлек чистый лист бумаги. – Извольте ручку с чернилами!
– Пожалуйста, – сказал комендант, придвигая к краю стола чернильницу. – Присаживайтесь…
Когда Тим, изрядно продрогший и в неважном настроении возвратился в свой с командой кабинет в полицейском управлении, то застал там только Эмана и Кёста.
– А где Шрайбер? – спросил он, помещая на вешалку шинель.
– Я его отправил на выезд, – ответил Эман, перебирая за своим столом какие-то бумаги. – Один жмурик у нас, думаю, он сам справится.
– Что случилось? – спросил Тим, подходя к столу Эмана.
– Убили нашего казака, – сказал Эман. – возле театральной площади.
– Ну вот, – раздосадованно произнес Тим. – завтра в театр явятся генералы, а там нападение! Снова невезение! Что за казак?
– Не помню фамилии… – сказал Эман. – с этими русскими фамилиями язык можно сломать… Офицер. Он там живет… жил в доме рядом… как раз во дворе дома его и застрелили… из карабина…
– Там живет?! – воскликнул Тим. – Мы же летом в его квартире размещали штаб и наблюдательный пункт, когда ловили Муромцова!
– Меня же тогда здесь не было, герр комиссар! – ответил, рассмеявшись, Эман. – Шрайбер вернется – почитаем, что он расследовал.
– Дом, который с южной стороны площади, так? – спросил Тим. – Там убили казака?
– Не знаю, герр комиссар, – сказал Эман. – Позвонил помощник директора, сообщил, что убит из карабина наш казак, офицер, во дворе своего дома возле театральной площади. Сказал, отправить туда кого-нибудь, я и отправил Шрайбера.
– Да больше там, по-моему, никаких казачьих офицеров и не было, – произнес Тим. Вот, значит, как дело вышло! Партизаны убили казачьего начальника, знакомого Тиму: того самого, который предоставил свою квартиру для наблюдения за площадью во время операции по ликвидации бандита Ваньки-Муромца. У него такая гостеприимная супруга! Эта новость после неудачного допроса коммунистических пособников в тюрьме никак не могла добавить бодрости духа: Тим невольно чувствовал долю своей вины за то, что не уберегли союзника. Ведь на ГФП лежал главный долг по обеспечению безопасности помощников из местных жителей от рук коммунистического подполья.
– И вот, еще вам принесли, герр комиссар! – сказал Эман, подвинув Тиму две бумаги с напечатанным на них текстом, которые перебирал в руках.
– Что это? – спросил Тим, взяв один лист и начав читать. Это был ответ из комендатуры города на запрос о личных данных Аксенова – командира взвода казаков из охраны шталага, откуда был совершен массовый побег военнопленных. Того самого, о котором, по словам агента Брехта, ходили разговоры, что это из-за халатности его взвода пленные смогли сделать подкоп под ограждением лагеря. Из пришедшего документа значилось, что Аксенов – простой казак, родом из деревни относительно недалеко от Ростова, с началом войны уклонился от советской мобилизации, поскольку не хотел проливать свою кровь за власть коммунистов, вступил в казачье подразделение немецкой армии через месяц после того как Ростов перешел в немецкие руки. Сразу же был назначен на охранительную службу в шталаг – не тот, в котором служил сейчас, а в другой – ближе к Белой Калитве, в октябре получил звание урядника, то есть, аналогичное немецкому унтер-офицеру, и назначен командовать взводом уже в тот лагерь, где случилось злополучное происшествие. Ничего незаурядного в официальной биографии урядника Аксенова не значилось. Он не был женат, из родственников в ответе числилась только мать, проживавшая в его родной деревне. Тим решил после обеда посетить политический отдел вспомогательной полиции и указать, чтобы был организован негласный сбор информации об этом человеке по месту его рождения.