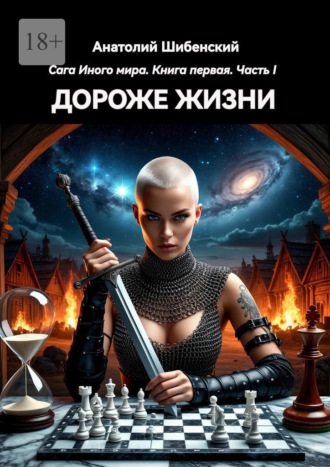
Полная версия
Дороже жизни. Сага Иного мира. Книга первая. Часть I
– Наверное, нет, – неуверенно предположил Дъярр, огорошенный суммой. – Похвала тоже никакая, конечно, но уж точно не обида.
– Хорошо. Пишу: «тысяча золотых», чтобы читающий остолбенел от благоговения и трепета. И своё имя: «продал Грой из Линглы, купец».
– «Купил, продал…» – нахмурился Дъярр. – Какие-то слова нехорошие.
– Увы, мир несовершенен… – с горьким вздохом закивал купец, разрезая пергамент сверху донизу на две одинаковые части. – В нём есть правила, они придуманы не нами. Торговцы не знают таких благородных слов, как «оставил красивую девушку честному юноше». Зато мой пергамент защитит её надёжнее любого панциря от уловок всевозможных прохвостов, которые посетят вашу замечательную страну в надежде нагреть ладони. И стража добавит плетей тем клеветникам, кто решится по недомыслию или из похоти завладеть лёгкой доверчивой добычей. Держи свою половину купчей и храни.
– Надо же… – изумился Дъярр, разглядывая затейливую вязь букв. – Какой могучий пергамент! Тысяча золотых – это много.
Он никогда не приценивался к золоту в таком количестве.
– Что я наделал! – вдруг воскликнул купец. – Юноша, ты пленил мой ум своим благородством, но теперь я обязан уплатить налог Гильдии в десятую часть суммы, целых сто золотых! В моём кошельке нет таких денег и мою дочь продадут в рабство!
Купец заплакал.
– Вот тебе и раз, – опешил Дъярр. – Давай исправим пергамент. Лучше одну обидеть, чем другую на рабство обречь.
– Не могу! – развёл руками купец, всхлипнув. – Исправления запрещены. Я погиб.
Губить столь доверчивого купца Дъярр желал менее всего.
– У меня только медяки, купец, – растерянно произнёс он. – Я и двадцати медяков не наскребу для твоего налога, даже если все свои вещи продам. Молотки, ботинки, тулуп…
– Но что за стеклянная кольчуга висит там, на истукане? – живо поинтересовался купец. – Это ведь твоя работа и твоя собственность? Если она из того же удивительного стекла, что и кинжал…
– Да кто ж из вояк за неё сотню золотых даст?! – удивился Дъярр. – Ты сам предлагал десятку за кинжал. Значит, кольчуга стоит двадцать.
– Но ведь это прекрасно! – глаза купца загорелись надеждой. – Осталось найти восемьдесят. Тут «двадцать», там «двадцать»… Глядишь, и соберу денег для налога.
– Конечно, забирай кольчугу! – торопливо разрешил Дъярр. – Хорошая. Её ничем не пробить, даже тем кинжалом. Может, ты её и за сотню умудришься сбагрить. Но получается, я тебя вроде как обманул. Я не хотел жульничать. Ты не в обиде, купец?
– О нет, юноша… – довольный купец спрятал кинжал и пергамент в шкатулку, которую имел при себе, оказывается. Снял с истукана кольчугу, свернул её. – Я выкручусь, не переживай за меня. И потом, разве свобода прекрасной девушки не стоит мелких личных неприятностей?
– И крупных стоит.
– Вот видишь! – купец многозначительно поднял палец. – Мы с тобой единомышленники. Надеюсь, мы уладили наше дело? Я оставляю тебе девушку, мой благородный друг. Она твоя. Возьми ещё и вот этот пергамент, тут записаны немногие слова, которые она понимает. И ключ от ошейника, теперь ключ тоже твой. Спрячь. Но обрубки цепи я заберу. Это серебро. Выручу за них десяток серебряных монет для налога в Гильдию. Да и зачем тебе невольничья цепь?
Он вложил в ладонь Дъярра клочок пергамента и ключ. Что-то сказал девушке, та испуганно закивала, высвобождаясь из плаща и башмачков.
– Э! Э! – запротестовал Дъярр. – Не надо смотреть ещё раз на голую девчонку. Видел, красивая. Пусть не раздевается. Это унизительно. И тем более не разувается. Тут колко.
– Друг мой… – удивился купец, отстёгивая обрубок цепи от ошейника рабыни. – Я не торгую шёлковыми плащами и замшевыми башмаками. Они принадлежат мне. Я оставляю тебе только девушку.
– Голую, что ли? – тупо спросил Дъярр.
– Разве? – купец отступил на шаг и оглядел рабыню. – Она в ошейнике.
– Ну ты и жук, купец, – сквозь зубы произнёс Дъярр и потянулся было к ошейнику с ключом, чтобы снять позорный знак иностранного рабства, но девушка испуганно загородилась локтями.
– Она боится, – объяснил Грой, складывая поудобнее шёлковый плащ, снятый с рабыни. – Она думает, её свяжут колючими грязными верёвками и поведут на твой корабль. Запрут в тёмный трюм, где пахнет ужасное ведро с нечистотами. Там много рабынь, им тесно, они плачут. Один раз в день им будут бросать солёную еду в маленькое окошечко. И давать тёплую тухлую воду в маленькой чашке. С той поры, как я надел на неё этот знак собственности, её вкусно кормили, купали, расчёсывали волосы и не били. Она решила, что в том заслуга колдовского украшения. Оно, как бы сказать…
Купец запнулся, подыскивая слово.
– Оберег… – тихо подсказал Дъярр, поражённый картиной, которую живо нарисовал в воображении со слов купца. – Ничего себе «украшение»…
– Да-да! – закивал купец. – «Оберег». Не прикасайся к нему, благородный юноша. Когда она поймёт, какое обрела счастье у друзей, твоя бабушка уговорит внучку снять ярмо рабыни. Её народ не знает железа и потому ей красиво всё, что выковано из неведомого ей блестящего металла. Видишь, я нарочно начистил ошейник до зеркального блеска.
– Башмаки верни, – твёрдо велел Дъярр, опомнясь. – Не жадничай. Тут не княжеские хоромы. Тут кузня. Моментом пятку занозит или ошпарит. А то и вовсе покалечится!
Купец огляделся и вздохнул:
– Увы, увы… Ты прав, юноша. Пусть они будут моим подарком ей.
И поставил у ног рабыни башмачки.
Это были очень дорогие башмаки, Дъярр видел похожие на базаре у порта, за них просили заоблачную цену, аж две монеты серебром.
Растроганный щедростью купца, Дъярр решил не ударить лицом в грязь и тоже блеснуть чем-то таким, названия чему пока не знал, но оно, это странное чувство, приказывало: «Блесни непременно». Утешая себя тем, что со свадебным подарком для Илли можно и повременить до зимы, а там, глядишь, подвернётся подарок получше – на самом деле Дъярр отчаянно трусил вручать Илли свой дар – он полез в тайник и достал синее платье, тщательно завёрнутое в чистую ткань. Развернул, запутался в материи, но в конце концов сообразил из неё что-то вроде хомута для лошади, но со свисающими рукавами. Осторожно приблизился к рабыне, чтобы накинуть платье-хомут ей на голову.
Обнажённая девушка попятилась.
– Женщины одеваются не так, друг мой, – тихо и грустно заметил Грой. – Разреши пособить?
– Попробуй, – озадаченно произнёс Дъярр.
– Придерживай другой край своего волшебного сооружения, – попросил купец, – и возьми девушку за руку. Крепко, но ласково.
Купец аккуратно завёл ладошку рабыни в рукав платья. Потом другую, в другой рукав. Что-то произнёс на незнакомом языке. Рабыня послушно подняла руки, ойкнула где-то под водопадом из синей ткани, которая хлынула вниз. Заморгала испуганно, выпростав голову из глубокого разреза, отороченного чёрной замшей.
– Не будешь ли ты против, мой благородный друг, – мягко произнёс купец, – если я помогу девушке завязать шнурки, чтобы привести её одежды в идеальный порядок? Мне видится, ты несведущ в женских облачениях.
– Да-да, конечно, – торопливо согласился Дъярр.
Он вдруг заробел снова прикасаться к рабыне. Та оказалась упругой и нежной на ощупь, от случайной встречи своей руки с её телом у Дъярра заколотилось сердце, заполыхали щёки и теперь он проклинал себя за распутство.
– Благодарю тебя, друг мой, – усмехнулся купец, скользнув взглядом по лицу Дъярра.
Ловко одёрнув и зашнуровав на рабыне платье, купец поправил ей волосы, завязал красивым узлом пояс, отошёл и что-то сказал.
Девушка подняла руки и принялась поворачиваться влево-вправо, переступая башмачками. Личико у неё казалось обескураженным.
– О-о-о… – изумился Грой. – Какое замечательное платье… Она выглядит настоящей богиней. За такую можно было вписать и «две тысячи».
– Не голышом ведь её на сход вести, – буркнул Дъярр. – Тоже мне, шутник.
– Зачем вести девушку на «сход»? – удивился купец. – Я знаю, что такое ваш «сход». Он подобен нашему «суду». Но зачем судиться? Я не нарушил закона. И ты не нарушил закона. Потому что у вас нет закона. Обидчика и обиженного у вас судит «сход». Но мы ведь не обижены. Объясни, зачем тебе «сход».
– Её должны во всеуслышание признать свободной сахтаръёлой, – решительно объявил Дъярр. – Хоть и в ошейнике. Плевать на ошейник. Если нравится, пусть носит. К синему платью серебро даже идёт. Ты с нами, купец. Свидетелем.
Дъярр никогда не выступал на сходе и надеялся, что народу там будет немного, два-три скучающих зеваки, как всегда. Произносить речи перед толпой он робел.
– О-о-о… – снова изумился купец. – Охотно окажу тебе эту услугу, юноша. Я ни разу не присутствовал свидетелем на вашем сходе. Это интересно.
Почём нынче рабыни?
Площадь Сходов, к ужасу Дъярра, вся гудела возбуждённым народом. Оказывается, ожидался большой спор за нанесённые побои, когда Сапожная слобода и Плотницкая сошлись в кулачном бою «стенка на стенку», разрешая застарелый конфликт. И теперь разъярённые жёны мастеров толпились у помоста смотрителя закона, требуя от обидчиков возместить монетой выбитые зубы мужей. Остальная часть площади щербато скалилась и перебрасывалась шутками. Но шум быстро стихал и все расступались перед Дъярром. Ещё бы! Перепуганный юнец шёл в сопровождении темнокожей красотки и купца-иностранца! Зрелище обещало быть захватывающим.
– Этих первыми заслушать! – сипло и громко закричало мужское многоголосие. – Зубы и фингалы «на потом». Тащите девку на помост. Красивая.
К помосту смотрителя закона – тот преспокойно завтракал в своём кресле – Дъярр шёл, весь мокрый от волнения. Как в полусне, поднялся по деревянным ступенькам. За ним осторожно-осторожно ступала рабыня, купец Грой помогал ей не споткнуться в непривычных одеждах.
– Ты купил рабыню?! – смотритель даже перестал жевать, рассматривая пергамент, который протянул ему Дъярр. – У этого вот купца из Линглы? Тебе сколько лет, «рабовладелец» хренов?
– Шестнадцать! – гордо ответил Дъярр.
Его страх перед людским скопищем вдруг исчез.
– Жаль, жаль… – огорчился смотритель. – Значит, придётся выпороть один раз. А надо бы два. Будь тебе восемнадцать, всыпали бы два раза.
– За что?! – возмутился Дъярр.
– Выпороть два раза! – шепеляво выкрикнули из толпы. – С отсрочкой. Как стукнет восемнадцать. А купцу запретить торговлю в Сахтаръёле навечно!
Поднялась возмущённая разноголосица:
– Во какие тут дела срамные затеялись, однако…
– Рабынь взялись завозить, скоты!
– Пусть забирает свою девку и катится восвояси!
– Но почему же? – развёл руками Грой, обращаясь к людскому морю. – Никто ведь не обижен! Купля-продажа была условной, вроде игры. Я оставил юноше эту рабыню в ответ на его подарок мне. Никто никого не продавал всерьёз. Работорговля не производилась. Эта девушка не товар, а подарок.
– Требую схода! – завопил Дъярр и закашлялся. У него с утра почему-то першило в горле.
– Ты уже на сходе, – насмешливо заметил смотритель, заворачивая остатки своего завтрака в чистую холстину. – Оправдывайся, паскудник. Говори громко и понятно. Со слезою в голосе. Авось разжалобишь народ.
И перевернул большие песочные часы на столике. Кроме часов и свёртка с пищей, на столике наблюдались печать, чернильница, стопка пергаментных листов, большой серебряный кувшин и чашка.
Дъярр решительно подошёл к столику смотрителя, налил в чашку воды из кувшина, отпил. Долил ещё воды и вручил чашку рабыне: пей, если хочешь. Но девушка не поняла и встала рядом, торжественно держа чашу перед Дъярром, как послушная служанка перед господином.
– Во обучил несчастную девку, гад, – сипло и зло произнёс кто-то. – Прислужницу купил себе. Выпороть три раза! С отсрочкой. Когда двадцать исполнится.
– Заткнись, – посоветовал Дъярр. – Не тебе часы выставили. Обращаюсь к вам, господа сахтаръёлы…
…Он говорил долго и громко. Рассказал о несчастной рабыне-богине в ужасном ошейнике, похищенной разбойниками; девчонку заставляли раздеваться догола, мерзавцы! У них клочок пергамента с повелениями на её языке, выкрикнут какое-нибудь «чиала воа» – раздевается и поворачивается голой туда-сюда, себя со всех сторон показывает мужикам. Каковы уроды, а?!
Услыхав «чиала воа», девушка быстро поставила чашу на помост и принялась неумело расшнуровывать платье, со страхом поглядывая на Дъярра, ибо узлы не поддавалась
– Куда?! – свирепо заорал Дъярр и рабыня замерла.
Сход загудел, перешёптываясь.
– Видели?! – Дъярр потрясал над головой кусочком пергамента с командами, переданный ему купцом. – Десяток слов начертан: «встань, сядь, раздевайся, повернись, ляг», прочие и читать стыдно. Человеком, как животиной неразумной управляют!
Яростно скомкал пергамент и запустил его с помоста наугад.
И заговорил о своей старенькой бабушке, которая приютит сироту-чужестранку, научит обычаям, языку и выдаст замуж за знатного столичного дружинника. У бабушки это получается.
Дважды он закашлялся от натуги, и девушка торопливо подавала ему чашку с водой.
Смотритель тем временем послал за какой-то «госпожой Тинсирьялой» и был крайне раздражён. На сегодня ему предстояло рассмотреть ещё несколько дел, время клонилось к полудню и смотритель трижды переворачивал песочные часы. Он даже попытался прервать Дъярра, но зашикали женщины, им было очень интересно.
– Чего ты хочешь от схода, рабовладелец сопливый? – устало спросил смотритель, когда Дъярр завершил речь. – Нравоучение твоё про стыд рабства мы поняли и осознали. Изложи наконец мысль. Но кратко. Я устал часы ворочать.
– Как «чего»? – изумился Дъярр. – Торжественно признать девушку свободной сахтаръёлой и внести о том запись. В тот самый пергамент поганый вбить таковскую запись, где про куплю-продажу. Крупно! И поставить печать. Чтоб ни у кого никаких сомнений! Ежели усомнится какой приезжий гад – каторга ему. Пожизненно. Нечего, понимаешь ли, сомневаться. Приехал торговать? – торгуй, а не рабынь тут выискивай. Живо руки обломаем. Эту запись тоже внести; ну, про каторгу за малейшее сомнение. Чтоб во все стороны от такого пергамента шарахались.
– Правильно! – выкрикнули сразу несколько сильных голосов. – Молодец, малец! Шикарную невесту выкупил!
– Она по-нашему не разумеет…
– Ничего, ночами обучится…
Покатился хохот.
– Госпожа Тинсирьяла тоже не разумела сперва и дичилась, помню. А теперь и слова поперёк не скажи, – загудел чей-то бас. – Огрела меня на базаре со всего маху! Рыбину, вишь, вчерашнюю ей продаю. Какая ж она «вчерашняя»? Свежий сом. Только что изо льда выколол.
– Правильно огрела. Лист едва пожелтел, а ты лёд сыскал на реке, балабол старый.
– Честью рыбацкой клянусь, плыл по реке лёд! Огромадные кусищи, с избу каждый. Пять штук. Ночью. Ходил я за море с Бангиръярром, видел морские горы айсберги. Так вот, что твои айсберги были те льдины! Оплыл я айсберг с опаской, гляжу, а в нём рыбы вморожено видимо-невидимо. Аж до Луговых владений плыл я, от айсберга к айсбергу метался, рыбу вырубал. Как не вырубить? – улов сам в руки приплыл! Полную лодку набросал мёрзлой рыбы.
– Видел я ту рыбу. И не мороженая она вовсе. Рыба как рыба.
– Оттаяла, пока обратно грёб.
– Откуда в Акдиръянде «айсберги»?! Это ж не море-океан.
– Со дна, должно быть, лёд тот всплыл. Ну как дно у Белых Поворотов льдом выстлано?! Там глубина громадная. Не донырнуть.
– Во брешет…
– От Поворотов течение семь дней несёт плот. Правильно огрели тебя за тухлую рыбу. Семь дней плыли твои сомы в «айсберге».
– Сильно огрела, кстати?
– От души.
– Да вон же она идёт! Посторонись, люди!
– Ты глянь, княжеский-то кобель опять возле неё отирается. Стыда нет у парня.
– При такой наружности да силище на кой ему стыд? Стыд на тех дурах, какие к нему сами льнут. А вот он не дурак, девок нетронутых обходит, чтобы честь отцовскую не волновать и на месть не нарваться.
– Зато всех баб в столице перелапал, пакостник. И в харю не даст никто.
– Дай, попробуй… Он супротив самого Къядра или Свирда вызывается соперником, когда дружина удары оттачивает. Ишь, надоели ему светлокожие, на тёмную зарится. Думает, тёмные вкуснее.
– Братцы, а за что его бить? Не, я сурьёзно спрашиваю! Не за что бить. Ежели твоя жена блудницей оказалась и сама к нему побежала, он-то чем виновен? Жену бей.
– А Сенхимел-то сможет навалять ему за сестру, пожалуй… Ежели тронуть посмеет.
– Да, Сенхимел сможет. Храбрости и силы не занимать.
– Потому и не тронет.
– На кой вертится тогда?
– Из малого интересу. У блудников, видишь ли, свой интерес, нам не понять такой. В «малый интерес» им охота поболтать с красоткой, плечика её коснуться невзначай, пособить сесть на коня, при том как бы ненароком по коленцу, а то и по ляжке пройтись плечом, стремя к сапожку её прилаживая половчее. Глядь, и не зря день прожил, прикоснулся к мягкому. А то и подглядеть её купание! Тут, сдаётся, дело в малом интересе. Средний интерес всем знаком, он честный: заманить в стог жаркую бабу так, чтоб сама из платья к тебе лезла. Наш Борр мастак по среднему интересу, но и малого, погляжу, не гнушается.
– Про «большой интерес» скажи, коль начал интересы расписывать.
– Нам такой в диковину. Это сразу двух баб в стог зазвать, разом. Поскольку обе голые, то не срамно обеим своей обоюдной наготы перед голым мужиком, даже лапают друг дружку тебе на потеху. Ну и тебя, само собой, обе сразу тискают, не в очередь. Четырьмя лапами, значит.
– Ёлы-палы…
– Ну, на такой «интерес» наших дур не склонить. Засмущаются.
– Есть ещё «огромадный интерес»…
– Во даёт!
– Это как?
– Да все прежние интересы, только замени распутных баб на нетронутых девок.
– Ты огромадное скотство с интересом не путай. За такой «интерес» ноги перешибать надо.
– Докатится наш красавец и до скотства, когда «большой интерес» ему приестся.
– Не возводи напраслину на парня. Он у князя воин стоящий. Один из первых.
– Сам поглядишь, дай срок. Это как пиво начал хлебать: сперва кружка голову кружит, через годик – уж две подавай для удовольствия, а там и на «дурной отвар» потянет, ибо и с пяти кружек тверёзый будешь вследствие поганой привычки.
– Верно.
– Где ж ты столь удивительных подробностей про «интересы» нахватался, дядя?
– В Танлагеме. Плавал я по-молодости с Бангиръярром в Танлагему. Ну, он теперь большой человек, отборной сотней заправляет в дружине Вадиръяндра. Может, слыхали про такого? Сурьёзный вояка. Ежели наш Борр к его дочкам сунется с «малым интересом», то ждёт его верная смерть от разящего меча. А в те дни состояли мы при охране кораблей, пушнину из Древних владений везли, груз ценнее некуда. Скукотень страшная, братцы, сидеть на палубе, на море пялясь! Мы-то скуку развеивали пением, а Бангиръярр пристрастился корабельное дело постигать: ну, когда-куда парус ставить, как руль поворачивать, каковы обычаи на судне… И постиг до тонкостей! Сам пристрастился корабли гонять в Танлагему. А в то плавание наши купцы торговали, и наткнулись мы с дружками на одно заведение, глянулось оно нам нескучной вывеской. Удивительное дело: за вход плату берут! Где такое видано? Однако-ся стоит у входа красивая девка, вся голая, в собачьем ошейнике, и цепью собачьей прикована к стене. Взимает плату в медную кружку. Одна медная монета, но не с пятерых, а с каждой головы!
– Ого…
– Да. При той кружке двое здоровяков в панцирях и с ножами.
– На кой?
– А хрен его знает. То ли девку, то ли кружку охраняют; там ворья и сластолюбцев невиданное число! Смеху ради решили зайти, не пожалели пяти монет. Круглый зал внутри, называется «сцена». Вокруг «сцены» скамейки добротные, отполированные задницами, за ними второй круг скамей, повыше, там третий. И вот так, лестницей деревянной, уходят те скамейки вдаль и вверх аж до потолка. Проходы меж ними просторные. Очень умно всё сделано для беспрепятственного обзора той самой «сцены». Меж скамеек молодые девки шныряют, голые совсем, но обутые в каблуки длиннющие и в железных ошейниках с цепью. Рабыни заведения, значит. Пиво разносят посетителям. Народу – битьми! А на сцене хрен знает что творится, братцы: четыре девки поют чего-то и раздеваются при таковском пении опосля каждого куплета. Заголились полностью! Завершили пение, собрали с пола свои манатки и смылись за штору. Выходит из-за шторы здоровенный мужик, тащит за руку девку ядрёную, и ну её раздевать! Она орёт, стонет, отбивается, но понарошку, с ужимками соблазнительными. То есть малое сопротивление злодею окажет-окажет, но тотчас на попятный идёт как бы в изнеможении. Оголил-таки он эту стерву, насытился ею пару раз, но уже без сопротивления с её стороны и даже с возрастающей охотою. Скрутил ей локти верёвкой – сама подставилась! – и увёл за штору коровой послушной. Из-за шторы девка в ошейнике шасть на сцену, собрала шмотки с пола, унесла. Мы думали, кончен срам невиданный. Ан нет! Две девки из-за шторы выходят! Эти уже почти нагишом, на каблучищах огромных. Сперва танцевали, но «так себе», на таковских ходулях не станцуешь. Однако-сь пляшут, кое-как, тряпки свои сбрасывают под флейту, у них там флейты невидимые дудят. Оголились окончательно и тут… выходит из-за шторы тот мужик и ну тех девок лапать!
– Это как? Двух сразу?!
– Угу.
– Обалдеть.
– Ты знаешь, получалось у них даже поинтереснее, чем с одною у того мужика. Но это ещё что, милок. Из-за шторы девки толпами как повалили, да все голышом! Куча-мала на сцене образовалась. Блудница на блуднице, и все с фантазией! Народ на скамьях сопит, хрипит, потеет…
– Поди, одни мужики похотливые собрались ко зрелищу?
– Знаешь, нет. На первой скамье сплошь бабы сидели, и непростые. Одеты в дорогое, все в масках расшитых, волосы уложены прям-таки башнями высоченными. Сидят чинно, внимательно глядят на представление, почёсывают в башнях своих волосяных длинными палочками.
– Зуд от зрелища разобрал дур, что ли?
– Не-а. Вши. Аж по скамейке забегали те насекомые, нагляделся я на вшей за границей. Там знатная госпожа вычёсывает их ароматной палочкой и давит на серебряном блюдечке серебряной ложечкой, прочие скребут насекомых по-простому, ногтями немытыми.
– Ни хрена себе представление…
– Во-во. Плюнули мы и ушли. Уж больно завоняло потным тряпьём. Вернулись на корабль, одёжу трясти и мыться дегтярным мылом.
…Пока сход гудел мнениями и воспоминаниями, через площадь шла высокая темнокожая женщина, очень красивая, лет тридцати пяти на вид и в дорогих одеждах. С нею был стройный молодой красавец в серебряной кольчуге поверх белоснежной рубахи, с длинным прямым мечом на золотом поясе, в чёрных атласных штанах и в красных замшевых сапогах. Дъярр знал: серебро очень мягкий металл, доспехи из него бесполезны против отточенных мечей и копий врага. В лёгкие серебряные кольчуги, как в атласные кафтаны, рядятся молодые заносчивые богачи, прельщая взгляды падких на блеск столичных красавиц. Воин был из знатных удальцов. Он остался у помоста, а женщина, изящно приподнимая длинный подол, взошла по лестнице к столику смотрителя. Рабыня смотрела на неё во все глаза. И судорожно отпила из чаши.
Смотритель закона почтительно встал:
– Госпожа Тинсирьяла, не серчай, из безысходного отчаяния за тобой послал. Тут очень дивное дело обозначилось. Парень вот этот купил иностранную рабыню и объявляет ей свободу. Мало того, требует признать сахтарьёлой! Но как без согласия? А согласия или отказа не получить, ибо по-нашему девка не разумеет. Она, часом, не твоего роду-племени? Видом больно схожа. Ты поспрашивай, а? Вдруг поймёт!
– Изволь.
И заговорила.
Девушка встрепенулась, ойкнув.
Чужую напевную речь сход слушал в тишине. Госпожа Тинсирьяла говорила и говорила, красивым жестом руки обвела молчаливую площадь, наполненную людьми, указала пальчиком на купола храма Милосердной Ормаёлы, погрозила кулачком куда-то вдаль; туда, где за лесами и озером простирались утёсы Виданоры. Улыбнулась Дъярру и что-то сказала рабыне значительным голосом.
Девушка-рабыня уронила чашку, закрыла рот ладошкой… и вдруг бросилась к Дъярру.
– Агидаши идгра! Агидаши идгра! – она плакала, обнимая Дъярра. Звонко чмокнула в ухо, в нос, в лоб…
– Вообще-то я Дъярр из Аръяварта… – только и нашёлся сказать Дъярр на такое изъявление чувств от столь упругого тела.
– «Агидаши идгра» не имя, – чему-то улыбнулась госпожа Тинсирьяла. – Девушка Видьянагги благодарит богов небесного океана за то, что послали ей… – на миг запнулась – …доброго волшебника. Ты «добрый волшебник», мальчик.
– А её зовут «Видьянагги», значит… – хрипло выдавил Дъярр, кое-как высвобождаясь из объятий рабыни. – Звучит.
– Замечательное имя, – согласилась госпожа Тинсирьяла. – Очень-очень интересное, из племени Водопадов. Господин смотритель, занеси меня в книгу решений схода не как поручительницу, а как «названную мать» госпожи Видьянагги. Для веса.







